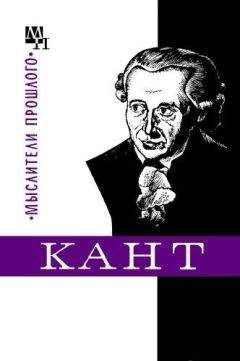Борис Капустин
Зло и свобода. Рассуждения в связи с «Религией в пределах только разума» Иммануила Канта
Книга рекомендована к печати Институтом философии РАН.
Рецензенты
профессор факультета теологии Университета Уппсалы (Швеция)
ЕЛЕНА НАМЛИ;
доктор философских наук, профессор, заведующий сектором этики Института философии РАН
РУБЕН АПРЕСЯН
Данная книга – не кантоведческое исследование, если под кантоведением понимать историко-философское предприятие, направленное на выяснение того, что «в самом деле» сказал или имел в виду Кант, заявляя то, что мы находим в его текстах, а также на доказательство целостности его философии (во всяком случае, «критического» периода) и отсутствия противоречий между его взглядами. В отношении первого – того, что он «в самом деле» сказал или имел в виду, мне кажется, проще и надежнее исходить из предположения, что мыслитель его калибра был в состоянии адекватно выразить себя и говорить именно то, что он собирался сказать и имел в виду. Во всяком случае, есть смысл хотя бы prima facie серьезно отнестись к увещеванию самого Канта, обращенному к его «последователям» и критикам, его сочинения «понимать буквально и рассматривать только с позиций здравого рассудка, достаточно развитого для абстрактного мышления» (курсив мой. – Б. К.)[1]. Что касается второго – противоречий между его взглядами, то попытки их «примирения» или демонстрации их мнимости только препятствуют постижению творческой динамики мысли Канта, ее взрывной силы и того крайне редкого ее достоинства, которое состоит в способности побуждать нашу мысль двигаться дальше тех пределов, к которым сам Кант хотел нас подвести. Такие креативные противоречия Канта, точнее, то, что автор этой книги полагает в качестве таковых, являются подлинным драйвером изложенных в ней рассуждений.
Данная книга – о трудностях и возможностях осмысления свободы человека. И эти трудности, и эти возможности в огромной мере обусловлены ее необходимой связью со злом, поэтому название книги – «Зло и свобода» – отражает тот ракурс, в котором в ней предстает свобода. Трудности и возможности осмысления свободы, о которых пойдет речь в книге, относятся именно к свободе человека, а не к идее свободы. Надо думать, при конструировании последней возникают свои специфические трудности и возможности, но они – с точки зрения легкости их преодоления или реализации – ничто по сравнению с трудностями и возможностями постижения свободы человека, которая может быть только той или иной практикой свободы.
Кант, как, пожалуй, никто другой, позволяет нам понять все значение разницы между конструированием идеи свободы и постижением ее практики. Уже в «Критике чистого разума» мы имеем целый набор логически безупречных определений свободы, которые, как нам может показаться, со всей надлежащей ясностью описывают ее[2]. И вот после всего этого (и после всех остальных «Критик») мы читаем в поздней статье 1796 г.: свобода «сама по себе представляет собой тайну»[3]. Разве не рассеяла ее вся серия отточенных дефиниций свободы, которая проходит через три «Критики»? И если всем им не удалось пролить свет на эту тайну, то зачем они нужны и каково их отношение к практической свободе человека? Вопрос этот – отнюдь не праздный и с точки зрения самого Канта. Ведь неумение «приблизить свою науку к человеку» – первый признак резко осуждаемой Кантом «педантичности», превращающей ее носителя в «карикатуру методического ума», в формалиста, не видящего за «оболочкой и скорлупой» «существа вещи», а таким «существом» может быть только практическая цель, а отнюдь не «бесполезная точность… в форме»[4].
Морис Мерло-Понти выразил разницу (в определенных ситуациях превращающуюся в противоположность) между идеей свободы и практиками свободы следующим образом: «Мы должны помнить, что свобода становится фальшивой эмблемой – “мрачным дополнением” насилия, как только она оказывается всего лишь идеей, а мы начинаем защищать свободу вместо защиты свободных людей. <…> Сущность свободы в том, что она существует только в практиках свободы, в неизбежно несовершенных движениях, которые связывают нас с другими [людьми], с вещами этого мира, с работой, в смешении с опасностями нашей ситуации. В изолированном виде или понятая как принцип дискриминации… свобода есть не более чем злое божество, требующее своих гекатомб»[5].
В «Критиках» Канта мы имеем как раз чистую идею свободы, сознательно и тщательно отделенную от всего «эмпирического» и «антропологического»[6]. Свобода, конечно, не предстает у Канта «злым божеством, требующим своих гекатомб», но она и не может требовать их, абстрагируясь от всякой исторической конкретности, включая те ситуации, в которых это могло бы произойти. Однако редукция свободы к идее имеет свою цену, которая не может не озадачивать как в собственно нравственном, так и в политическом отношении. В этом редуцированном виде, с одной стороны, свобода, подобно тому, что характерно для оруэлловского «новояза», неотличима от подчинения. «Свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам, – это одно и то же»[7]. Или, что то же самое, «понятие долга есть уже само по себе понятие о каком-то принуждении свободного произвола со стороны закона»[8], и ведь лишь в таком принуждении мы, по Канту, обретаем «свободную волю» (как неподчинение «естественным склонностям»).
Однако же верно, если говорить о практике человека, что свобода вне и без закона оказывается всего лишь самодурством и произволом, т. е. несвободой как диктатом прихотей и «страстей». Следовательно, сбрасывая принуждение закона как такового, мы всего лишь меняем форму рабства, а отнюдь не обретаем свободу. Это и ставит относительно практик свободы первый труднейший вопрос: каким образом возможна законосообразная свобода, не деградирующая в принуждение со стороны закона (морального или любого другого)? Иными словами и пользуясь кантовской терминологией, нужно понять не то, как возможен и что представляет собой «закон свободы», который ведь и есть не что иное, как сам практический разум и сам моральный закон, и потому он ровным счетом ничего о свободе как свободе сказать не может[9], а то, как возможен и что представляет собой «свободный закон» в качестве принципа организации практики свободы реальных исторических людей.
С другой стороны, свобода превращается в «этическом каноне» Канта всего лишь в инструмент, служащий для достижения более высоких, чем она, целей, прежде всего – целей моральности, т. е. безусловного подчинения чистому долгу. Поэтому Кант во второй «Критике» со всей отчетливостью пишет: «…Идея свободы как способности абсолютной спонтанности была не потребностью, а аналитическим основоположением чистого спекулятивного разума, если речь идет о возможности такой свободы»[10]. Потребностью свобода, согласно Канту, как раз не является. Однако ее следует мыслить для решения некоторых других задач, таких как обнаружение ответа на вопрос о том, может ли разум найти путь к достоверности при заведомой противоречивости (антиномичности) представлений об абсолютной целокупности в синтезе явлений[11], или для «обоснования» – в качестве ratio essendi – морального закона[12].
Тем не менее в практиках свободы она никак не может выступать в качестве инструмента или средства. Это обстоятельство, обозревая первые практики свободы, создавшие Современность и характерные для нее, Алексис де Токвиль зафиксировал в своем знаменитом афоризме: «Кто ищет в свободе что-то другое, нежели она сама, создан, чтобы служить»[13]. Дело не в том, как поясняет Токвиль, что свобода не может приносить с собой никаких иных благ, помимо своего собственного «очарования», что она не в состоянии решать насущные и даже самые что ни на есть материальные проблемы жизни людей. Она может делать и делает это. Но суть в том, что ее нельзя обрести и нельзя ее надолго сохранить, если к ней стремятся ради этих отличных от нее самой благ. В этом смысле свобода напоминает конечное, или высшее, благо (счастье), как его описывал Аристотель. Таким конечное благо делает именно то, что к нему стремятся ради него самого, а не ради какого-то еще более высокого блага, в достижении которого данное благо выступит всего лишь средством. Однако неотъемлемое свойство конечного блага – то, что оно является причиной и условием создания «низших» благ, образующих «тело» «высшего блага»[14].