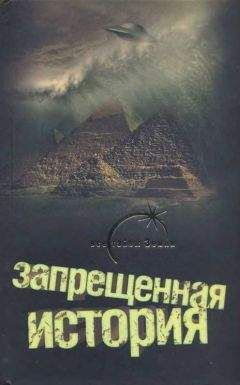Достаточно посмотреть на крепость Славянск, на нечеловеческую эффективность закрепившихся там партизан, которых западные журналисты описывают как «русских православных фундаменталистов», чтобы понять как властна подлинная идея и насколько жалки по сравнению с нею пляски украинских националистов.
В-третьих, пример Муравьева и Каткова показывает, что рецепт несокрушимости России – в союзе национальной государственной бюрократии и национального гражданского общества. Там, где у государственных деятелей нет национальной составляющей, – настроения русского общества оказываются лишь еще одним из голосов критического концерта оппозиции.
И напротив, без поддержки (именно поддержки, а не медийной симуляции) национального общественного мнения, прессы, интеллигенции национальная бюрократия быстро падет в неравном бою с космополитической, имеющей своим тылом весь Запад. Бюрократию, опирающуюся не на национальное начало, а на «как бы чего не вышло», просто сомнут.
Деятельность Муравьева, старого, уже умиравшего человека, инвалида – тяжело раненного в Бородинском сражении, продолжалась всего два года (1863–1865). Ее плодами Россия пользуется уже полтора столетия. Целые сектора нашей стратегической обороны возникли благодаря его усилиям.
И тем обиднее, что народу его имя сейчас неизвестно, интеллигентный обыватель судит о нем по клевете Герцена и нигилистов, нет ни памятников, ни глав в учебниках – там, где должны быть, особенно для наших чиновников, целые уроки.
30 апреля 2014
Смерть героям, или о природе фашизма
За последние десятилетия наша интеллектуальная среда пережила волны реабилитации фашизма. Под фашизмом, уточню сразу, я имею в виду не конкретное политическое движение в Италии, созданное Муссолини, а весь спектр идейно близких ультраправых движений в Европе 1920-1940-х годов, выступавших единым фронтом в единой коалиции в годы Второй мировой войны.
Тут вместе и рядом и германский национал-социализм Гитлера, и фалангизм в Испании, и британский фашизм Мосли, и вишистский монархизм Морраса, и многие другие течения.
Консервативная мысль в России, начиная с 1990-х годов, проявляла к ним известный интерес – кого-то привлекал консервативно-революционный дух, кого-то – бескомпромиссный национализм, кого-то – радикальная эстетика, кого-то – противостояние как утомившему нас коммунизму, так и западным либеральным демократиям.
Так или иначе, одно время неофашистская мода казалась почти мейнстримом. Всё, что ненавидел постсоветский человек в своем бытии, отождествлялось с тем, с чем боролись фашисты, и, как результат, то тут, то там можно было услышать о том, что Гитлер кое в чем был прав и, если бы не нападение на СССР и не «эксцессы с евреями», это был бы, пожалуй, неплохой парень.
Многим уже казалось непонятно то чувство экзистенциального ужаса и отвращения, которое испытывали к фашизму сражавшиеся с ним наши старшие поколения.
Многие относили этот ужас за счет грамотной работы советской пропаганды, слепившей якобы из обычных германских захватчиков каких-то потусторонних монстров.
Одесская Хатынь поставила жестокий и страшный эксперимент, показав нам лицо фашизма как оно есть. И выяснилось, что фашизм – и в самом деле вопрос не политики, а антропологии, что экзистенциальный разрыв действительно существует и проходит поверх идеологий. Возникшее чувство отвращения к содеянному объединяет и консерватора, и либерала, и националиста, и коммуниста, и атеиста, и христианина.
И столь же пестра коалиция тех, кто поддерживает ту сторону, – тех, кого не коробит от вида тел сожженных людей, кого не возмущают шуточки про «колорадский шашлык», кому не зазорно передавать ложь украинских пропагандистов о том, что «сепаратисты сами себя сожгли», называя ее «объективной версией».
Выбор «свой-чужой» делается не в сфере идеологии, а в исповедуемой философии жизни.
Я постараюсь объяснить, что такое фашизм, в той степени, в которой сам это понимаю. И, может быть, в одесской трагедии многое встанет на свои места.
Человек – существо, остро переживающее свою неполноценность и стремящееся её устранить.
Как отмечал великий русский философ Несмелов, всё наше существование задается противоречием между нашей физической природой – слабой, ограниченной и тленной, и нашей духовной природой – безграничной, устремленной к знанию и могуществу.
По христианскому учению, эта двойственность связана с нашим грехопадением: каждый человек ощущает в себе природу и силы первозданного Адама, но наша практическая жизнь – это ежеминутное подтверждение нашего ничтожества и слабости. Всё человеческое общество, вся человеческая культура, вся человеческая деятельность – это способы разными способами заполнить разрыв между нашим царским призванием и актуальным ничтожеством. Кто-то в молитве призывает божественное восполнение нашей немощи, кто-то надеется овладеть силами магии, кто-то создает хитроумные машины, расширяющие возможности человека, кто-то совершает подвиг, доказывая, что немощь плоти не накладывает оков на силы его духа.
Сущность фашизма как философии жизни в том, что в ней один человек утверждает собственную онтологическую полноценность, полноту своего бытия, свой статус истинного человека за счет унижения, порабощения, уничтожения другого человека.
«Я убиваю и я унижаю, следовательно, я существую». Я могу бессмысленно и бесцельно мучить другого, следовательно, я высшее существо и человек вполне. Гений Достоевского с его великим вопросом «Тварь я дрожащая, или право имею?» предугадал этот жизненный центр этой фашистской философии.
Но ответ писателя в образе Раскольникова мог породить иллюзию, что практическое воплощение этого принципа невозможно, так как будет сокрушено силами человеческой совести.
Нет смысла прибегать к передаваемой Раушнингом сомнительной цитате из Гитлера о «грязной химере, именуемой совестью», чтобы признать, что сущность фашизма как социальной технологии состояла именно в снятии совести и прочих ограничителей стремления к господству, с тем чтобы создать касту господ, возвышающуюся над кастой рабов, орден убийц, безжалостно утверждающий свое право смерти и страдания над убиваемыми.
Здесь работают также инструменты коллективного сплачивания «господ» в противостоянии низшим – национального, классового, партийного.
Здесь работает и специфический героический миф – фашистский культ героя очень развит. Однако он весьма специфичен – это не культ героя, нисходящего к людям, отирающего слезы, утоляющего боль, прикрывающего их своей грудью.
Это культ героя с презрением к смерти и толпе идущего по голова и трупам, способного, не дрогнув ни жилкой, убивать и умирать.
Характерно в этом смысле обращение фашизма к историческому образцу Древней Спарты.
Спартанский опыт может быть прочитан двояко. Либо через образ Леонида и его 300 воинов (говорят, сейчас в Славянске появился плакат «300 стрелковцев»), образ жертвы собой ради отечества, воспитания могучего воина, скованного самодисциплиной и одушевленного патриотическим духом.
Но может быть спартанский опыт прочитан и через практику криптий, через жестокое господство над илотами, через тайные убийства и атмосферу безграничного террора и насилия. И тогда подготовка идеального воина оказывается нужной исключительно для того, чтобы порабощать, унижать и убивать.
Между этими двумя гранями спартанского опыта – идеальный воин и идеальный господин-рабовладелец – большинство европейских народов выбрало первую. Фашизм выбрал вторую. Он привлекал и привлекает молодых людей героической риторикой, обещанием воспитать бескомпромиссность и силу духа, выработать из слабого слишком человека подлинного сверхчеловека.
Однако высшим актом самореализации этого сверхчеловечества оказывается убийство беззащитного, безоружного и слабого, сопровождаемое истязаниями и издевательствами. Такое убийство ставится фашистом гораздо выше, чем убийство врага в честном бою.
Победитель доказывает только то, что он – хороший воин. Каратель утверждает себя как господин.
Именно эта антропология и философия жизни фашизма оттолкнули от него большинство здравомыслящих людей Европы и мира в годы Второй мировой – ни национализм, ни империализм, ни милитаризм, ни сам по себе антисемитизм Гитлера не имели бы такого эффекта, не подняли бы такой волны отвращения и гнева, как садистская самоупоенность нацистских карателей.
Именно ответ на вопрос, кто такой человек – существо страдающее и борющееся или же мучащее и подавляющее – разделил фашизм и антифашизм поверх идеологических барьеров.
Сегодня на Украине мы видим возрождение фашизма в его антропологическом ядре. Мы видим субтильных юношей и девушек, ощутивших свой сверхчеловеческий статус, вдыхая запах сожженной плоти замученных ими в Одессе людей.