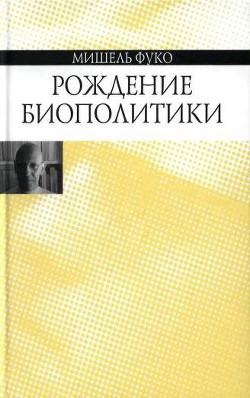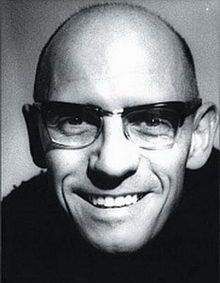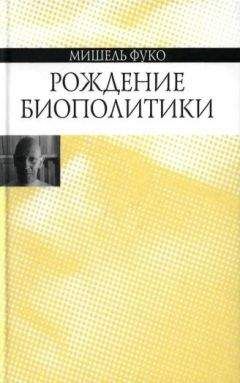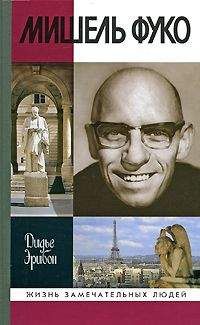Может быть, этот опыт прикосновения к смерти и впрямь наводил Фуко на веселый лад, однако его последствия были не столь приятны. Больше года философ страдал от сильных головных болей и приступов тошноты и головокружения. В 1979 г. он признался К. Мориаку, что так и не оправился от последствий травмы. [162]
Во-вторых, в сентябре 1978 г. в миланской ежедневной газете «Corriere délia sera» открылась новая рубрика под названием «Расследования Мишеля Фуко». Философ намеревался писать «интеллектуальные репортажи» (reportages di idee), в которых можно было бы рассказать о том, чему никогда не давали слова, но самое главное — следить за рождением идей не в книгах, а в событиях. Статьи переводились на итальянский и печатались в Милане, поскольку Фуко не хотел осложнений, которые непременно возникли бы, публикуй он эти материалы во Франции. Наибольший резонанс получили его репортажи о революции в Иране. «Я не могу написать историю будущего, я — довольно неуклюжий исследователь прошлого, — объяснял он свою деятельность. — Однако я хотел бы зафиксировать „то, что происходит“, ведь в эти дни [в Иране] еще ничто не предрешено, и агония продолжается. Возможно, это журналистская работа, но верно и то, что я всего лишь неофит». [163] В сентябре-октябре 1978 г. Фуко в сопровождении Т. Вельтцеля совершил две краткие поездки в Тегеран. В своих репортажах он охарактеризовал ситуацию в Иране как «всеобщую политическую забастовку», то есть забастовку в отношении политики: люди отказывались подчиняться действующей системе и в то же время не желали участвовать в политической борьбе за будущее государственное устройство. Он взял интервью у аятоллы Мадари и встретился с Мезди Базарганом, который вскоре стал премьер-министром. На него произвело прекрасное впечатление заявление Базаргана о том, что исламское правительство намерено ограничить гражданские права религиозными обязанностями, так что сам ислам будет отныне противостоять любым попыткам правительства пойти наперекор воле народа. В статье, напечатанной в «Le Nouvel Observateur»? он написал, что в Иране возрождается то, о чем на Западе не слыхали со времен Ренессанса — «политическая духовность». Увлекшись, он недооценил диктаторский потенциал аятоллы Хомейни и заявил, что аятолла выступает фокусом анонимных коллективных сил, и никакого «режима Хомейни» не будет. Однако вскоре Хомейни пришел к власти, и начались массовые расстрелы. Фуко написал открытое письмо к М. Базаргану, в котором напоминал ему о «духовности». [164] Ответа он, конечно же, не получил.
В-третьих, в ноябре 1978 г. Фуко был вовлечен в организацию рейса спасательного судна, которое должно было вывезти терпящих бедствие вьетнамских беженцев, которых отказалась принимать Малайзия. Если в начале 1970-х гг. Фуко протестовал против войны во Вьетнаме, то теперь ситуация изменилась: приходилось спасать жертв победившего Вьетнама. Ни компартия, ни троцкисты не поддержали эту кампанию.
В марте 1979 г. Фуко предоставил свою квартиру для арабо-израильского коллоквиума. Апартаменты на улице Вожирар были переоборудованы в конференц-зал. 14 марта состоялась первая встреча, на которой Сартр произнес краткую речь. Сам Фуко отсутствовал: он не желал принимать участия в дебатах.
20 июня 1979 г. Фуко и Сартр организовали пресс-конференцию в поддержку беженцев из Вьетнама. В работе пресс-конференции участвовали А. Глюксман и Р. Арон. Фуко потребовал от правительства увеличить число беженцев, принимаемых во Франции. Несколько дней спустя философ приветствовал Сартра и Арона на другой пресс-конференции, организованной в стенах Коллеж де Франс. Фуко выступил с речью, ставшей чем-то вроде хартии о правах человека:
«Существует интернациональный долг, создающий права и обязанности и состоящий в том, чтобы выступать против любого злоупотребления властью, независимо от того, кто его совершает и кто становится его жертвами. В конце концов, всеми нами управляют, а это значит, что все мы солидарны». [165]
Президент Жискар д'Эстен принял делегацию, в которую входили Сартр и Глюксман, и выказал полную неосведомленность о проблемах вьетнамских беженцев. Он пообещал помощь, однако делегаты покинули Елисейский дворец в самом мрачном настроении. Впрочем, после долгих бюрократических проволочек беженцев все-таки приняли.
Этот общий контекст позволяет взглянуть на «Рождение биополитики» с событийной точки зрения и довольно легко ответить на вопрос о том, разделяет ли сам Фуко идеи неолиберализма, о которых идет речь в настоящем курсе. Конечно же, Фуко никакой не неолиберал. Но вовсе не из-за его пресловутой «левизны». Как ни парадоксально, Фуко, неизменно тяготевший к левому крылу, наиболее активно поддерживал «правые» революции (в Тунисе и в Иране), пропустив единственную «левую» революцию в своей жизни — майское восстание 1968 г. Он сотрудничал с голлистским правительством, но не стал сотрудничать с правительством социалистов. Очень трудно, быть может, вообще невозможно определить его «партийную» ориентацию. По-видимому, таковой вообще не было. «Я думаю, — говорил он в 1984 г., — что побывал на большинстве клеток политической шахматной доски, последовательно, а иногда и одновременно: анархист, левый, открытый или замаскированный марксист, нигилист, явный или скрытый антимарксист, технократ на службе у Шарля де Голля, новый либерал и т. д… В действительности я предпочитаю никак не идентифицировать себя, и я удивлен разнообразием оценок и классификаций». [166] А в 1977 г. он заявил, что, возможно, мы присутствуем при конце политики. Однако этот «конец политики» для него не был прекращением политической деятельности. Как заметил Ж. Рансьер, «деполитизация — вот древнейшее занятие политического искусства, то, что добивается достижений, приближаясь к своему концу; достигает совершенства у края обрыва». [167] То, что многие исследователи рассматривают как отход Фуко от политической активности и утрату им политических ориентиров в начале 1980-х гг., как раз и было его политической практикой «у края» — там, где утрачивают смысл метанарративы о социальном и об абсолютной несправедливости.
Неолиберализм интересует Фуко как стратегия сопротивления государственной власти, того сопротивления, в котором как раз и происходит становление властных отношений. Он далек от моральных или эмоциональных оценок: власть — не зло и не добро. Это регистр, в котором происходит субъективация индивида, становление индивида субъектом. И неолиберализм симпатичен Фуко не более и не менее, чем все прочие формы сопротивления государственной власти, такие, например, как ходатайства о бланкетных указах в XVIII в. Власть не «спускается сверху», но «поднимается снизу». Знание и власть не накладываются на производственные отношения; они укоренены в том, что создает производственные отношения.
В связи с этим стоит, пожалуй, сказать несколько слов об отношениях Фуко с концепциями, авторитет которых в этой области долгое время считался непререкаемым — с марксизмом и социальной философией Франкфуртской школы.
Если и можно усмотреть у Фуко отголоски марксовых идей, то звучат они, несомненно, в интерпретации его учителя Луи Альтюссера, который, выступая против гегелевского субъекта истории, не отказывался от самой категории субъекта. Альтюссер выработал концепцию интерпелляции, согласно которой субъект производится дискурсом, причем это производство является ответом на «запрос власти». И Альтюссер, и Фуко интересовались проблематизациями, а не решением проблем. Хотя Альтюссер был стойким марксистом, а Фуко — своего рода релятивистом, оба философа выступали против абсолютизированного представления об истине и заблуждении. Как и Альтюссер, Фуко настаивал на том, что наука сама производит собственные объекты, являясь в то же время эффектом социальных техник. Однако Альтюссер всегда придерживался марксистского убеждения в существовании «объективной реальности», что вызывало у него большие трудности при попытках совместить марксистскую философию с традицией эпистемологии. Фуко оторвался от марксизма, заявив о «произведенном» характере реальности. Так, например, в 1978 г. он говорил: «Маркс думал — и писал об этом, — что труд составляет конкретную сущность человека. Мне кажется, это типично гегельянская идея. Труд не является конкретной сущностью человека. Если человек трудится, если человеческое тело представляет собой производительную силу, то именно потому, что человек обязан трудиться. А обязан он потому, что инвестируется политическими силами, потому что захвачен механизмами власти». [168]