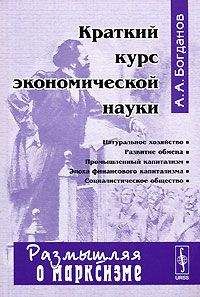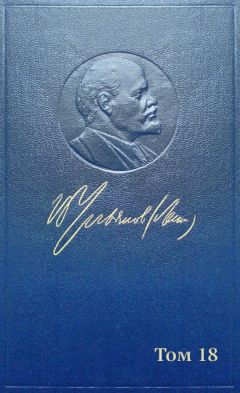Но для Вл. Ильина все это – «абсолютные заблуждения», не более… Впрочем, виноват, не так: одну из основных идей католицизма – «абсолютную и вечную истину» – он в неприкосновенности сохранил, и защищает с истинно-религиозным усердием. А между тем, от его собственных писаний ничего не стоит доказать, что католицизм и вообще был истиной, не только истиной своего времени.
Я имею в виду то необыкновенное истолкование марксовского положения о практике, как о критерии истины, которое дает В. Ильин, в полемике с Махом. Мах по поводу ньютоновского представления об «абсолютном пространстве» и «абсолютном времени» замечает, что взгляд этот, для нас совершенно уже неправильный, был долгое время безвреден на практике, и потому не подвергался критике. В. Ильин немедленно ловит на этом Маха:
«…Признавая «безвредность» оспариваемых им материалистических взглядов, Мах в сущности признает тем самым их правильность. Ибо как могла бы неправильность оказаться в течение веков безвредной? Куда девался тот критерий практики, с которым Мах пробовал заигрывать»? (стр. 206).
Относительно же католицизма любой марксист-историк может объяснить В. Ильину, что эта система идей «в течение веков» была не только «безвредной», но и полезной, и необходимой, как общественно-организующая сила. Но – признание такой «безвредности в течение веков» есть «в сущности» признание «правильности» католицизма, не так ли? Почему же сам В. Ильин отрицает, по крайней мере, большую часть его догматов?
Когда Маркс говорит, что критерий истины есть практика, то он выражает этим, прежде всего, именно точку зрения относительности истины. С изменением содержания практики людей изменяется и их истина. То, что было истиною в пределах практики более узкой, перестает быть ею в практике более широкой. А для В. Ильина «критерий практики», это нечто вроде такого экзамена, после которого истине выдается окончательный аттестат: выдержала несколько веков, была безвредна – отлично, истина признается «объективной», вечной и т.д.; не выдержала – заблуждение, и тоже объективное, вечное и пр.
Очевидно, что всего лучше на деле выдержала этот экзамен докоперниковская космология: она целые тысячелетия «была безвредна», т.е. «правильна». Читатель уже раньше мог видеть особенную враждебность философии Вл. Ильина по отношению к теории Коперника; перед нами уже второе, слегка замаскированное только, ее опровержение.
Ну, а католицизм для нашего автора, конечно, все-таки заблуждение, и абсолютное заблуждение. Легкий конфликт с логикой тут не в счет. В. Ильин не унизится до исторической точки зрения; он судит все отжившие истины прошлого с точки зрения своей нынешней, абсолютной и вечной истины, как иной миссионер судит нравы дикарей с точки зрения своей «абсолютной и вечной» нравственности: «верили в чудеса? – абсолютное заблуждение. Ходят неодетыми? – абсолютное бесстыдство!».
Блажен, кто верует так… бесхитростно.
Одним из выводов моего исследования о характере «физического опыта» был тот, что «объективность», которую мы за ним признаем, есть не что иное, как его общезначимость для людей; а эта последняя есть, в свою очередь, результат и выражение его социальной организованности, его коллективного согласования. Такая организованность или согласование достигаются в процессе совместного труда и общения людей, при котором стройно объединяются их общие и однородные переживания. При этом вырабатывается та «объективная закономерность» физического опыта, которая дает его комплексы в непрерывном и однородном пространстве, в непрерывном и однородном времени, в цепи причинности. Благодаря существованию уже выработанной объективной закономерности, человек получает возможность относить к «физическому» то, что вполне укладывается в эти формы, не прибегая каждый раз к непосредственной специальной проверке своих переживаний, к выяснению того, действительно ли они «общезначимы», т.е. согласуются с переживаниями других людей.
Так, например, астроном, впервые наблюдающий новую комету, раз ему удается точно установить ее положение в физическом пространстве (а не только в своем индивидуальном поле зрения), последовательность ее движения во времени, зависимость этого движения от солнечного тяготения и т. п., – с полным основанием считает ее за «общезначимое», физическое тело, не справляясь специально о том, видят ли ее другие. С другой стороны, если человеку удается точно установить, что те или иные комплексы, признаваемые другими людьми за «физические» или, что то же, за «действительно существующие», не укладываются в объективную закономерность, то он с полным основанием отвергает «действительность» подобных комплексов, их «физическое» бытие. Например, если для таких «организмов», как лешие и домовые, он не находит места в генетической цепи развития, а в их «свойствах» усматривает противоречие законам физики, концентрирующим в себе многие тысячелетия накоплявшийся точный трудовой опыт человечества, то он вполне прав, отрицая «объективность» или общезначимость подобных комплексов. Хотя бы большинство его окружающих, даже огромное большинство современного ему человечества полагали иначе, и утверждали, что они «сами видели» подобных существ, – на его стороне «объективность», т.е. организованный опыт человечества, против него – опыт неорганизованный, противоречивый.
Ибо социальная организация опыта отнюдь не есть дело подсчета голосов, но дело развивающейся коллективной практики. Так, социальная ценность любого орудия определяется не тем, большинство ли производителей его применяет или меньшинство, а тем, соответствует ли оно требованиям прогресса коллективного труда.
Вот что говорит теперь Вл. Ильин по поводу всех этих выводов и соображений:
Богдановское определение объективности и физического мира безусловно падает, ибо «обозначимо» учение религии в большей степени, чем учение науки: большая часть человечества держится еще поныне первого учения. Католицизм «социально-организован, гармонизирован, согласован» вековым его развитием; в «цепь причинности» «укладывается» самым неоспоримым образом, ибо религии возникли не беспричинно, держатся они в массе народа при современных условиях вовсе не случайно, подлаживаются к ним профессора философии вполне «закономерно» (стр. 136-137).
Ясно, что Вл. Ильин неспособен представлять себе «общезначимость» или «социальную организованность» иначе, как в форме решения вопросов истины и действительности по большинству голосов, хотя сам же, на предыдущей странице, приводит цитату, где разъясняется нелепость подобного представления. Не может – и кончено; что же с этим поделаешь? Поэтому я отмечу только удивительный по своей новизне логический прием, которым он от моей точки зрения создает переход к истинности католического учения. Католицизм, как исторический факт, «укладывается в цепь причинности», так как «возник не беспричинно» и пр. Что из этого следует? Очевидно, только одно: что католицизм есть объективный исторический факт. Но ведь этого и Вл. Ильин, как будто, не отрицает. Между тем, дело идет совершенно о другом вопросе: «объективно» ли то понимание фактов, которое заключается в учении католицизма? И тут ответ совершенно ясен: в современную «цепь причинности» факты каким их представляет учение католицизма, очевидным образом не укладываются, идеи «чуда» и «свободы воли» ей резко противоречат и потому для нас, людей XX века, это учение не только не «общезначимо», но просто ложно. Что же, собственно, доказал почтенный автор, подменивши на глазах читателя объективность католицизма как исторического явления – объективной истинностью его учения?
Если, вопреки учению католицизма и Вл. Ильина, не существует «абсолютной и вечной истины», то нет также «абсолютных и вечных» заблуждений. Взгляните с исторической точки зрения хотя бы на идею «чуда» Она не только соответствовала понятию «причинности», господствовавшему в авторитарную эпоху, – она была тогда познавательно-полезна и для развития только еще зарождавшегося научного понимания природы. В самом деле, она явилась частичным замещением первоначального всеобщего анимизма, который приписывал действия всех вещей воле скрытых внутри их «душ». Но благодаря некоторому развитию техники, умению справляться, по крайней мере, с наиболее обыденными вещами окружающей среды, большинство этих вещей стали рассматриваться как «неодушевленные», и причины их действия привыкали искать вне их самих. Это было огромным прогрессом познания: мир переставал быть хаосом мелкого личного произвола бесчисленных самостоятельных «духов», зарождалось научное понимание «вещей». Но все же познание было крайне слабо, и время от времени даже обыденные вещи поражали людей неожиданными и непонятными действиями: спокойная, неподвижная гора начинала вдруг извергать пламя, пепел, камни и лаву, мертвая почва дрожала и волновалась, обыкновенные предметы во времена эпидемий приносили людям болезни и смерть через прикосновение к ним. Несовершенные и еще непрочные представления о физической связи вещей легко разрушались бы подобными фактами, уступая место прежнему грубому анимизму, объяснению необычных действий произволом самостоятельных «душ» горы, земной почвы и других вещей, – если бы концепция «чуда» не отстраняла все подобные факты, относя их к личному вмешательству иных, внешних фетишей. Так избегался возврат к одушевлению вещей, и элементы «физического» миропонимания могли дальше беспрепятственно развиваться.