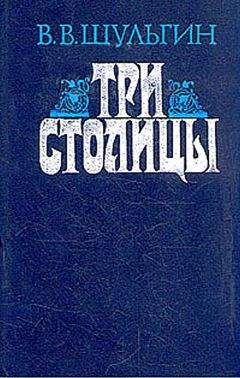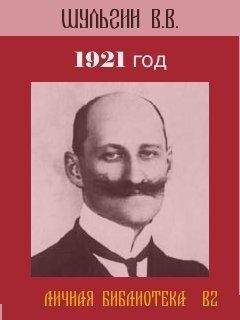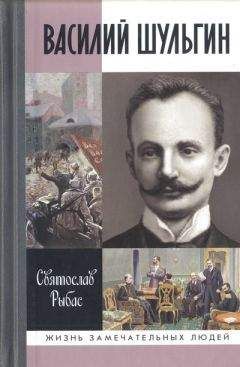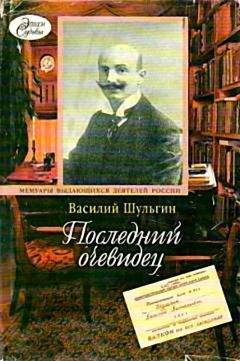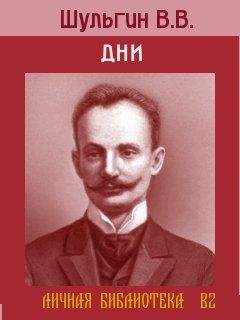Когда я проснулся в последний раз, благоприличный гражданин ушел, а Антон Антоныч предлагал мне пойти выпить кофе.
— Путь свободен, Эдуард Эмильевич.
* * *
Мы вернулись в купе после кофе и оказались вдвоем. Ничего не могло быть приятнее для меня. Во-первых, в смысле безопасности, а во-вторых, потому что железнодорожное купе, в котором только двое, всегда как-то располагает к разговору. Колеса ли так действуют, выстукивая свою мелодию? В наших же условиях действовало сознание замкнутости с четырех сторон, а следовательно, уверенности, что тебя не подслушивают.
Разговор и завязался. Антон Антоныч сказал:
— Эдуард Эмильевич. Если я позволил себе предложить вам ехать в Киев, то это не потому, что я бы не сознавал, что именно в Киеве вам грозит наибольшая опасность. Я уже имел честь вам докладывать, что знавал вас некогда лично…
Было бы в самый раз спросить: «Да кто же вы такой, Антон Антоныч?»
Но я не спросил. Это у меня было твердо решено: ничего не спрашивать.
Я обратился к людям с просьбой помочь мне. Они согласились, помогли мне перейти границу и, по-видимому, намеревались помогать и еще в чем-то дальнейшем. За это я был им глубоко признателен.
Разумеется, при скользкости всего предприятия, мне предоставлялось вечно сомневаться: а не попал ли я в руки ловких агентов ГПУ? Подозревать всех и вся было мое право и даже в некотором роде обязанность. Но приставать с расспросами было бессмысленно со всех точек зрения. Если я имел дело с провокаторами, то вряд ли вопросами я их бы расшифровал. Пожалуй, здесь могло бы помочь только сосредоточенное внимание. Если же я имел дело с честными контрабандистами, то лезть в тайны людей, оказывавших мне величайшую услугу, я считал бы безобразным. Деликатность была единственная благодарность, которой я мог бы заплатить за то, что они для меня делали. До сих пор все было безоблачно. Дыхания предательства я не ощущал. Наоборот, от всех моих новых друзей шли хорошие токи.
Антон Антоныч продолжал:
— Именно по этой причине, то есть потому, что я имел честь вас знать, мне и было поручено, так сказать, ну, словом, помочь вам на первых шагах в этой стране…
— Позвольте вас очень благодарить и простите за многообразные хлопоты, которые я вам причиняю…
— Нет. Вы меня не так поняли. Я сам предложил себя, и это доставляет мне положительное удовольствие. Но… но, кроме удовольствия, есть ответственность… и ответственность тяжелая. Если бы с вами что-нибудь у нас случилось, кто прежде всего виноват? Я!.. И потому… и потому… я вздохну облегченно, я, Эдуард Эмильевич, почувствую себя счастливым в ту минуту, когда… когда мы с вами благополучно расстанемся!
Я рассмеялся и пожал ему руку. Он продолжал:
— И я очень понимаю, что Киев для вас опасен. Хотя вы прекрасно загримированы, прекрасно, но все же… И если я предложил вам ехать в Киев, то потому, что был уверен, что ваши дела именно этого требуют. Не так ли?
— Не совсем.
— Как так? Разве не около Киева вы должны искать вашего сына?
— Нет.
— Но почему же в таком случае…
— Потому что вы, между прочим, обмолвились, что у вас есть спешные дела в Киеве. Это, во-первых. А во-вторых, потому, что если представляется случай посмотреть Киев, то, согласитесь, было бы непростительно им не воспользоваться…
* * *
Итак, мы ехали в Киев вследствие некоторого «недоразумения». Уж, видно, такова была моя судьба.
Разговор продолжался. Антон Антоныч говорил:
— Мне дана директива сделать для вас все возможное. Конечно, мы только контрабандисты, но именно поэтому у нас есть немножко связей повсюду. В каком бы городе ни находился ваш сын, мы поможем вам его разыскать. Значит, условимся так. Я кончу свои дела в Киеве, вы в это время посмотрите, что вас интересует, и затем мы двинемся дальше, в зависимости от обстоятельств. Хорошо?
— Прекрасно. Я не знаю, как вас благодарить.
— Эдуард Эмильевич. Во-первых, друзья наших друзей — наши друзья… А во-вторых, разве потому, что мы контрабандисты, мы уже все забыли? Допустим, мы не занимаемся политикой. Но ведь это не значит, что мы ею не интересуемся. Наоборот, так как наши занятия позволяют нам читать газеты и журналы «оттуда», то мы, пожалуй, из всех обитателей СССР, если не считать ГПУ, самые осведомленные люди… Мы очень хорошо представляем себе, что у вас делается в эмиграции. И относительно почти всех видных лиц у нас есть свое собственное, сложившееся мнение…
— Вы меня в высшей степени заинтересовали. И если вы затронули этот вопрос, позвольте вам поставить вопрос в упор: за что вы нас больше всего ругаете?
Он улыбнулся.
— За что мы вас ругаем? Да, ругаем!.. Это правда. Видите, мы не можем понять: каким образом вы можете между собой ссориться из-за пустяков? Все вопросы, которые разделяют эмиграцию, с нашей точки зрения, мелки. Есть один только большой вопрос: это «они». Большевистская власть, коммунисты, советское правительство. Этот великий вопрос состоит в том, слетят они или нет. И даже не в этом, ибо мы убеждены, что они слетят, а в том, когда они слетят. Впрочем, и это будет неточность. Вопрос состоит в том, какими способами и какими силами произойдет их свержение. И нам кажется здесь, что все те, кто против них, должны были бы быть скованными в нечто единое… То, что эмиграцию могли разделить какие-то второстепенные вопросы, в то время как не решен главный, то, что вы делите шкуру неубитого медведя, одновременно ничего не делая, чтобы его убить, вот за это мы вас ругаем…
— В этом, значит, мы с вами солидарны. Некоторые из нас неповинны в узком сектантстве и интригах…
— Это мы знаем. Мы знаем, что есть люди, среди эмиграции, которые стараются стоять в стороне от этих распрей… Но позвольте вас просить заплатить откровенностью за откровенность: а вы за что нас ругаете?
— За что мы вас ругаем? Позвольте в таком случае уточнить, кто это такое вы. Вы — это весь русский народ, который не эмигрировал, который остался… Который после всех потерь все-таки насчитывает сто миллионов с десяточками миллионов же. Вот этот русский народ мы подразумеваем, когда говорим «вы». Мы его ругаем за то, что он безмолвствует, за то, что он покорился, за то, что он не борется До нас доходят сведения, что будто бы весь народ ненавидит свою власть. Если бы это имело место в Англии, Франции, Германии, Италии и даже в маленьких государствах Европы, такая власть не усидела бы и трех дней. В России же всеми ненавидимая власть преблагополучно сидит годы. Как это понимать? Или же это неправда то, что нам говорят, и всеобщей ненависти нет…
— Нет, это правда. Если не считать самих коммунистов, которых нет и процента, то все остальное эту власть ненавидит…
— Ну, а если это так, если это правда, то, значит, народ сей никчемный. За это мы его и ругаем. Как? Без конца сидсть в этом позорном рабстве и не шевельнуть пальцем для своего освобождения! Мы белые, мы хотя и плохо, захлебнувшись в своих собственных недостатках, мы все же боролись. И потому, если хотите, мы имеем некоторое моральное право ругать тех, кто не борется. По крайней мере я хочу сказать, что еще недавно именно такой была эмиграционная точка зрения. Конечно, люди, более тонкие, более вдумчивые, приводят всякие смягчающие обстоятельства. Они говорят о том, что англичане, французы, немцы, такие, какие они сейчас есть, суть продукт долголетнего самоуправления, привычки к ответственности за свою родину, за свои государственные и политические дела. У нас же население совершенно не было к этому приучено, все делалось на верхах. А потому, как требовать от масс гражданственности? Она не является в течение нескольких лет, а воспитывается веками. Это, конечно, так, но все же факт остается фактом. В этом народе, пусть привыкшем, что все за него делает начальство, все же, когда старое начальство слетело и когда новое начальство оскорбило его в самых его лучших чувствах, нашлась некоторая группа, которая не стерпела оскорблений и взялась за оружие. Эта группа были мы, белые… Но с тех пор, как мы ушли, по-видимому, все, что способно было оскорбляться, возмущаться и действовать, исчерпано, а то, что осталось, покорствует. Вот за это мы вас и ругаем…
Антон Антоныч ответил не сразу. Он как будто искал в самом себе что-то такое, что могло бы быть ответом, а может быть, искал того спокойствия, которого этот ответ требовал. Наконец он сказал:
— Мы очень хорошо знаем, что вы нас за это ругаете. Я вам очень благодарен, что вы это сказали так прямо. Это не значит, что мы относимся к этому спокойно. Отношение к нам эмиграции в высшей степени для нас болезненно. Но справедливо ли оно? И может ли эмиграция, которая так страшно далека от нас, как будто бы живет на луне, имеет ли право эмиграция так о нас судить? Знаете ли вы, да вы, конечно, это знаете, что за исключением князя Долгорукова, добравшегося, впрочем, только до пограничной станции, вы первый из числа тех лиц, которыми руководится общественное мнение русской эмиграции, кто приехал к нам? Вы вот давеча сказали: «Не знаю, как вас благодарить». Не надо благодарить, Эдуард Эмильевич. Ваша благодарность состоит в том, что вы решились к нам пробраться… У нас тяжело, очень тяжело. И вот за то, что мы переживаем, за те действительно трудные условия, в которых нам приходится действовать, нас же у вас обвиняют… Обвиняют и оскорбляют тех, кто не может защищаться. Не может подать голоса. Ведь положение таково. Допустим, кто-нибудь из нас перешел бы тайно границу и появился бы там у вас, в Берлине, Париже, Белграде, и рассказал бы все, что у нас делается, рассказал бы, так сказать, как мы живем и работаем. Ведь ему не поверят. Ведь установился такой странный взгляд: если кому-нибудь из заявляющих себя против большевиков что-нибудь удается, то значит — это провокатор. Если бы, мол, не был провокатором, то давно бы его большевики поймали. Ведь, скажите, правда есть такое представление?