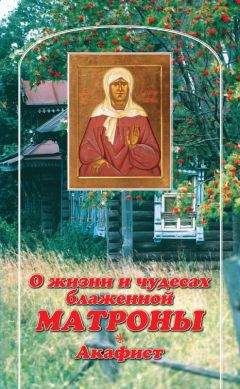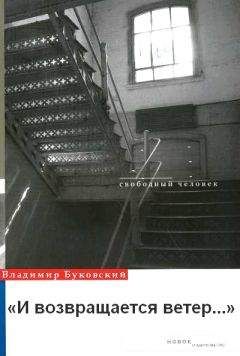Когда швед по-немецки сказал «пять лет», оба финна почти одновременно что-то по-фински выкрикнули и кому-то угрожающе замахали кулаками.
Швед замолчал и стал вытряхивать из своих карманов оставшуюся махорочную пыль. кто-то подал ему «бычка». Он поблагодарил, несколько раз затянулся дымом и передал окурок финнам.
— И по сколько им дали, говорите? — снова переспросил у меня старик.
— По пятаку.
— Мало! Этим барчукам надо было всунуть лет этак по 10, чтобы, канальи, помнили и детям своим заказали, — каков-то советский рай! — с озлоблением выговорил старик, сочно сплюнул в угол под нары и полез на свое место.
Кто-то из слушавших добавил:
— Ну, и наивненькие же эти заграничные пролетарии… говорят — «откровенно заявили», — что, мол, снова желаем в свою Финляндию. А им, дурачкам, за их откровенность да по пять лет лагерей!
Я с трудом перевел им высказанные рассуждения.
— Почему так нехорошо думает о нас русский товарищ? — удивленно спросил швед и стал это передавать финнам.
— В конце своего срока, когда советский рай превратит вас в инвалидов, вы сами это поймете, — ответил я.
И долго еще камера подсмеивалась над ними.
В пересыльной камере Новосибирской тюрьмы НКВД находилось около тридцати заключенных. На тюремном жаргоне этот народ назывался «путаным», т. к. в ту камеру, как пересылочную, направляли людей со всевозможными статьями. Здесь были священники, постоянные сидельцы тюрем из генштабистов царской армии, бывшие участники махновского движения, старые члены эсеровской партии, студенты советских вузов, бывшие кулаки, очутившиеся в тюрьме за попытку выехать с Урала на родину, сектанты, инженеры с каких-то предприятий, агрономы совхозов и колхозов, несколько человек уголовников, три или четыре троцкиста, а дальше шла разная рабоче-крестьянская мелкота, попавшая в заключение за антисоветские анекдоты и разговоры, за связь с «бывшими людьми» и кулацким элементом, и тому подобную советскую чепуху.
Часть заключенных-пересыльников валялись на одноярусных нарах, а остальные прохаживались по громадной камере и вели между собой бесконечные разговоры.
Вот, бывший учащийся какого-то советского зоотехникума Леня. Парню лет 17. Он бродит по камере и всем охотно рассказывает историю своего дела. История обыкновенная, советская. Их было трое учащихся. Помещались они в одной комнатушке интерната, жили, учились дружно, были членами комсомола и т. д. Одним словом, были советским «племенем». В общежитии у них была небольшая тумбочка, куда они прятали свои продукты питания. В нее начала заглядывать мышь и учинять там «вредительские» действия. Ее ребята поймали и судили. Устроили ей показательный суд с обвинителем, прокурором, адвокатом и… именем РСФСР вынесли высшую меру наказания через повешение. Мышь на шпагате тут же была повешена. Вот и вся шутка. Ребята похохотали и разошлись. А на следующий день «тройку», судившую мышь, пригласили в НКВД и посадили. Через несколько месяцев им дали по три года — и в лагерь на перековку. Леня в десятый раз возмущался.
— Никак не могу понять, за что нам дали по три года? Говорят, что за дискредитацию советского суда. Да ведь это же была простая шутка.
— Ничего, ничего, Леня. Курс зоотехникума придется тебе закончить в лагере, а диплом выдадут урки! — подшучивали над ним заключенные.
— И правильно! — угрожающе восклицал Леня.
— Честное слово даю вам, что стану налетчиком и буду загонять их туда, где зимуют раки и прочие насекомые. Искалечили мне молодость, так я их (с ударением на их) искалечу так, как Бог черепаху!
— А тебя, пацан, за что посадили сюда? — спрашивают у парня лет 15–16, стоящего рядом с Леней.
— За что? — переспрашивает юноша.
— За «террор» против сталинского портрета! — серьезно отвечает он.
— Как это «против портрета»! — любопытствуют заключенные. За парня отвечает Леня.
— Видите, Сашка учился в семилетке. Во время перемены — стали пускать «мотыльков» по стенам класса.
— Знаете, немного расщепляется перо, — в него вкладывается квадратик бумажки и — мотылек летит. И вот Сашка нечаянно угодил этим «мотыльком» в портрет Сталина, прямо в лицо. Ученики донесли директору, а директор куда надо, вот и всё!
«Террорист» (с пятилетним сроком) стоял и мрачно грыз ногти.
— Ничего, — заключил Сашка, — абы до весны, а там махнем! Вы не смотрите на меня, что я такой низкорослый. За две недели до вашего этапа через нашу камеру проходила целая польская школа, ребятишек душ 70, - прямо одна детвора с десяти лет и до моего возраста… Учились они себе в классе, в своем каком-то Мархлевском районе, возле самой польской границы. Школа была на польском языке. Так вот, к школе этой во время уроков подъехали две машины ГПУ и всех — на Сибирь, со всеми, можно сказать, учителями и директором. Говорили — вроде забрали их за шпионаж, который они для фашистов сделали. Вот это были ребята! Только бы до весны!
— Будет тебе трепаться, Сашка, пойдем лучше в шашки дерганем, — вмешался Леня и потащил его с собой в угол на нары.
Вот еще прогуливается по камере инженер Калугин. Его арестовали на каком-то военном строительстве, после пыток и терзаний дали 10 лет и направили в лагерь. Ему сорок лет, но он выглядит стариком, поседевшим в подвалах НКВД. Оба глаза косят в разные стороны (от сильного удара рукояткой нагана в переносицу), лицо и лоб в шрамах, во рту не хватает пяти зубов: выбили. И только после последних пыток Калугин вынужден был «сознаться» во «вредительстве» и подписать протоколы обвинения.
А вот, проходит по камере в поисках закурить бывший генштабист Челпанов. Он уже отбывает третий или четвертый срок, превратился в дряхлого старика и инвалида и просит у Бога смерти.
— Учтите, уважаемый товарищ, — говорит он тихо и бесстрашно.
— В Советском союзе полковники Генштаба уборные чистят по тюрьмам и лагерям, а людоеды и людоедки с Кубани и Украины, находящиеся в Соловках, похваливают «хозяина». Триста сорок людоедок-баб, хоть ободья на них гни, — для чекистов разводят огородинку всякую, а меня заставили чистить их уборную. И вот они остались в Соловках, а меня освободили на одну неделю. Т. е., через неделю меня снова арестовали и с новыми пятью годами везут на Восток.
Старик трясся всем телом и просил хлеба и табаку. Со стоном он продолжал:
— Просил их — расстреляйте меня, не мучьте! «Знаем, говорят, — кого надо расстреливать, а кого перековывать». Так вот, до того уж меня «перековали», что себя не узнаю — побираюсь… Зачем дальше влачить это убогое прозябание?
Старик беспрерывно курил (он подбирал бычки) и заговаривался:
— Жизнь — пустота, как дырка от бублика, а в пустоте этой вертятся одни факты да люди, умноженные на классическую подлость якобинцев. Клаузевиц эти вопросы не так решал…
Генштабисту заворачивают толстую цыгарку и дают прикурить. Он затягивается и успокоенный удаляется.
Ноябрь 1935 года. Центральный Распред Сиблага НКВД.
Мрачное, грязно-красноватое трехэтажное здание Мариинской Пересыльной тюрьмы на фоне грозного квадрата — зоны, охраняемого молчаливыми «попками» на сторожевых вышках. По ночам — прожектора и немецкие овчарки. Тюрьма столетняя… Говорили, что через нее проходили декабристы и их жены, позже — народники всех мастей и оттенков, а затем революционеры 1905 года и якобы даже «сам» будущий «вождь» народов Иосиф Джугашвили…
Говорили, что эта тюрьма всегда так переполнена бывает только потому, что в ней побывал сам Сталин и, так сказать, распахнул ее ворота для тех, кто в будущем не согласится рукоплескать его кровавым экспериментам…
Действительно, эта проклятая тюрьма всегда была полна заключенными со всего Советского Союза. По точным данным Учетно-Распределительного Отдела этого узилища, только за первое полугодие 1935 года прошло через него арестантов «Кировского набора» более 360 тысяч человек…
Миллионы заключенных прошли через ее коридоры и камеры, чтобы потом попасть в какой-нибудь отдаленный угол территории Сиблага и там погибнуть от голода, холода и тяжкого каторжного труда.
Сталин позаботился о том, чтобы через эту тюрьму проходили представители всех национальностей России, включая своих грузинских земляков.
В стационарных тюрьмах разрешались пяти — или десяти — минутные прогулки во дворе, а в этой коробке люди сидели без прогулки до тех пор, пока их не вызывали в этап или же не выносили на носилках в больницу или в мертвецкую. Тогда только можно было слышать в тюрьме и вокруг нее:
— Давай выходи! Давай мыться! Давай за обедом! Давай собираться в этап! Давай становись! Давай не разговаривать!
В остальное время администрация и охрана тюрьмы зловеще молчала и только «обслуживающий персонал» из урок свободно вел разговоры с заключенными. Но и они уже, подражая своим патронам, часто выкрикивали знаменитое; «Давай-давай»!