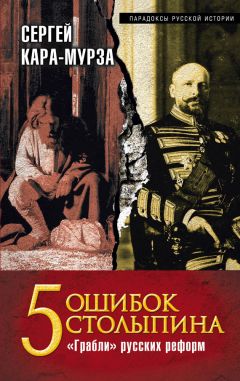О какой же свободе речь? Бердяев пишет: «В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства… Россия — страна бытовой свободы, неведомой народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей… Россия — страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей”40.
А как обстояло дело с «бытовой свободой» на Западе, в историческом разрезе? Вот, например, под каким надзором жили французы. После 1680 г. каждый человек старше семи лет мог потребить в год 7 фунтов соли — но только для варки пищи. На другие цели использовать соль запрещалось — для этого на особом складе надо было покупать другую соль, получать на нее справку и при первом требовании предъявлять ее соляным инспекторам. Если приставы находили, что какой-то крестьянин засолил на зиму сало или свинину солью из положенных 7 фунтов, мясо конфисковывалось, а на хозяина налагался огромный штраф в 300 ливров. И эти приставы постоянно шныряли по домам, открывали бочонки с солониной и измеряли крепость рассола, пробовали соль в солонке и арестовывали хозяев41. Надо думать, отвязаться от них без мзды было непросто.
Таким образом, свобода, как одна из «исторически своеобразных форм нашего отношения к вещам, к другим людям и к самим себе», обладает большим разнообразием и по-разному воплощается в разное время в разных культурах. Более того, разные воплощения свободы в одном месте и в один и тот же момент могут находиться в противоречии, причем нередко неразрешимом, трагическом. Даже не верится, что целый синклит ведущих философов Москвы, который собрался за этим столом, мог не видеть такой элементарной вещи — но ведь он благосклонно поддакивал Л.С.Мамуту и другим корифеям, которые несли аналогичную чушь42.
Дело в том, что интеллигенция мечтала о свободе червяка, не ограниченного никаким скелетом. Она отошла от рациональности Просвещения, которая, по выражению М.Фуко, есть «терпеливый труд, оформляющий нетерпение свободы». В статье “Патология цивилизации и свобода культуры” (1974) Конрад Лоренц писал: “Функция всех структур — сохранять форму и служить опорой — требует, по определению, в известной мере пожертвовать свободой. Можно привести такой пример: червяк может согнуть свое тело в любом месте, где пожелает, в то время как мы, люди, можем совершать движения только в суставах. Но мы можем выпрямиться, встав на ноги — а червяк не может”43.
Скептицизм людей в отношении всей этой “свободы без берегов” вызывал у архитекторов перестройки очень болезненную реакцию. Они клеймили консерватизм рассудительной части общества, выходя при этом за рамки разумного. М.С.Горбачев применил такую логику: “Когда ты десятилетия живешь в таком обществе, то возникают определенные стереотипы, привычки, создается своя особая культура (если это можно назвать культурой — может быть, это антикультура), свои правила и даже традиции. Участью общества была боязнь перемен. Для многих стала характерной неприязнь к новым формам жизни, к свободе”44.
Все это — глупость с примесью фанатизма. М.С.Горбачев просто обругивает культуру своей страны, а читатели должны сам факт порицания принимать за доказательство обвинения! А если вдуматься — что же плохого в том, что в “этом обществе” возникают стереотипы, привычки, своя особая культура, свои правила и даже традиции? Разве существует где-нибудь общество без всего этого? Наоборот, все это — необходимые атрибуты любого устойчивого общества. И разве “боязнь перемен” — какой-то небывалый дефект именно советского общества? Да это элементарное условие существования общества, любой сложной системы!
И не должны мы прятаться от того факта, что менее образованные люди оказались более разумными — они гораздо более осторожно и скептически относились к лозунгу безграничной свободы. Какую это вызывало злобу и, главное, непонимание! А.Н.Яковлев пишет: “Да, в 1985 г. я, например, не предполагал, что у нас такой огромный запас консерватизма в обществе. Мне казалось, что стоит только провозгласить — свобода, гласность, демократия! И такое забурлит! Только б удержать энтузиазм! Но все оказалось намного сложнее, труднее. Вы видите, борются даже против демократии, а часть людей раздражена гласностью, считает, что это дело вредное”45.
Нелогичным было и то представление о контексте свободы, которое накачивали в сознание идеологи перестройки и их интеллектуальные соратники. Это представление было увязано с демократией (причем определенно имелась в виду именно западная демократия). Понятия свободы и демократии считались почти синонимами. Профессор права Б.Пугачев («известный политолог») даже опубликовал в «Российской газете» (17.03.1992) статью с замечательным названием: «Демократия равна свободе. Свобода самоценна». Возражений не последовало, наша интеллектуальная элита даже не поинтересовалась, откуда взялась такая странная концепция. Ведь, что ни говори, а демократия, какая бы они ни была, есть власть. А любая власть есть принуждение, ограничение свободы.
Уж если следовать за мыслью философов гражданского общества, то движение к цивилизации и возникновению общества и демократии они понимали именно как последовательное ограничение свобод «естественного» человека. Гоббс пишет: «Пpиpода дала каждому право на все. Это значит, что в чисто естественном состоянии, или до того, как люди связали дpуг дpуга какими-либо договоpами, каждому было позволено делать все, что ему угодно и пpотив кого угодно, а также владеть и пользоваться всем, что он хотел и мог обpести…» (см. 46).
Представление Гоббса ошибочно, его образ «человека естественного» — чистая идеология. Но здесь это не важно, а важно то, что даже родоначальники либерализма не могли помыслить того, что вдруг начали вещать наши проваренные в историческом материализме обществоведы.
А ведь во время перестройки на щит подняли Н.Бердяева! Выходит, на щит подняли, но почитать его никто не удосужился. Он писал: “Для многих русских людей, привыкших к гнету и несправедливости, демократия представлялась чем-то определенным и простым, — она должна была принести великие блага, должна освободить личность. Во имя некоторой бесспорной правды демократии мы готовы были забыть, что религия демократии, как она была провозглашена Руссо и как была осуществлена Робеспьером, не только не освобождает личности и не утверждает ее неотъемлемых прав, но совершенно подавляет личность и не хочет знать ее автономного бытия. Государственный абсолютизм в демократиях так же возможен, как в самых крайних монархиях. Такова буржуазная демократия с ее формальным абсолютизмом принципа народовластия… Инстинкты и навыки абсолютизма перешли в демократию, они господствуют во всех самых демократических революциях”.
Что же касается западной демократии, то она в ходе своего исторического развития как раз и породила государство-Левиафан, которое предсказал Гоббс. А.Тойнби в своем главном труде “Постижение истории” пишет об утверждении на Западе культа Левиафана, начиная с Рима первых веков нашей эры: “В западном миpе в конце концов последовало появление тоталитаpного типа госудаpства, сочетающего в себе западный гений оpганизации и механизации с дьявольской способностью поpабощения душ, котоpой могли позавидовать тиpаны всех вpемен и наpодов… В секуляpизованном западном миpе ХХ века симптомы духовного отставания очевидны. Возpождение поклонения Левиафану стало pелигией, и каждый житель Запада внес в этот пpоцесс свою лепту”.
Более того, и в самой современной версии либерализма (неолиберализме) признается наличие противоречия между демократией и свободой. Давая философское обоснование неолиберализма, Г. Радницки подчеркивает это различие: «Идея свободного порядка легко может войти в конфликт с определенными типичными применениями демократического метода… Чем больше областей подвергается «демократизации», тем уже круг решений, которые остаются во власти индивидуума, и тем в большей степени разрушается индивидуальная свобода»47.
Но эта историческая и современная реальность была неинтересна нашей прогрессивной интеллигенции. Она построила себе утопический примитивный образ и поверила в него, как в сущность. И в него призывала втиснуть нашу реальную жизнь.
Второй провал рациональности в связи с представлением о демократии вызван тем, что оно было изначально увязано с частной собственностью и рынком. Упомянутый выше Э.Я.Баталов говорил на круглом столе в “Вопросах философии”: “Не буду заниматься тщетными поисками определения демократии. Скажу только, что суть ее вижу в существовании между гражданами отношений рыночного типа — неважно, идет ли речь о демократии в политике, экономике и культуре… Словом, есть рынок — есть демократия, нет рынка — нет демократии. Третьего не дано, точнее, третье — казарма”.