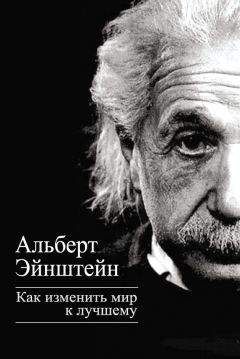Тагор: Да, у нас есть песни с ничего не значащими словами, которые как бы заменяют ноты. В Северной Индии музыка является самостоятельным искусством, а не просто интерпретацией слов и мыслей, как в Бенгалии. Музыка очень сложна и утонченна и сама по себе является завершенным миром мелодии.
Эйнштейн: Она не полифонична?
Тагор: Инструменты используются, но не для гармонии, а для сохранения ритма, для большего объема и глубины. Разве мелодия в вашей музыке страдает от наложения гармонии?
Эйнштейн: Иногда она действительно сильно страдает. Иногда гармония слишком «раздувает» мелодию.
Тагор: Мелодия и гармония – это как линии и цвета на картине. Простой графический рисунок уже может обладать совершенной красотой; использование цвета порой только вносит неясность и бессодержательность. В то же время в комбинации цвета и линий рождаются великие творения, если цвет не подавляет их и не обесценивает.
Эйнштейн: Это прекрасное сравнение; к тому же, линия намного древнее цвета. Видимо, ваши мелодии намного богаче по структуре, чем наши. Вероятно, то же самое может быть сказано и в отношении японской музыки.
Тагор: Сложно проанализировать эффект, оказываемый на наши умы восточной и западной музыкой. Я глубоко впечатлен западной музыкой; я чувствую, что это великая музыка, обширная по структуре и величественная по своей композиции. Наша музыка затрагивает меня глубже, поскольку в ней чувствуется глубокий лирический посыл. Европейская музыка эпична по своему характеру, очень многое вкладывается в ее сочинение; по своей структуре эта готическая музыка.
Эйнштейн: Вот вопрос, на который мы, европейцы, не в состоянии ответить должным образом. Мы хотим знать, отражает ли наша музыка условные или фундаментальные человеческие чувства, насколько естественно чувствовать переход от консонанса к диссонансу, или же это принимаемая нами условность.
Тагор: Фортепиано несколько смущает меня. Гораздо большее удовольствие мне доставляет скрипка.
Эйнштейн: Интересно знать, какое впечатление произвела бы европейская музыка на индийца, который никогда не слушал ее в молодости.
Тагор: Как-то я попросил одного английского музыканта сделать анализ одного классического произведения и объяснить мне, благодаря каким элементам возникает красота выбранного пассажа.
Эйнштейн: Сложность в том, что по-настоящему хорошую музыку, будь-то западную или восточную, нельзя подвергнуть анализу.
Тагор: Да, ведь то, что глубоко затрагивает слушателя, находится за его пределами.
Эйнштейн: Весь наш фундаментальный опыт, в т. ч. наши реакции на искусство, всегда будут пронизаны подобной неопределенностью, как в Европе, так и в Азии. И красный цветок, который я вижу перед собой, может означать для вас совершенно другое, нежели для меня.
Тагор: И все же идет постоянный процесс примирения между ними, индивидуальный вкус приходит в соответствие с универсальным стандартом.
1930 г.
Наука и Бог
(Беседа А. Эйнштейна с ирландским писателем Дж. Мэрфи и американским физиком и математиком Дж. Салливэном)
Мэрфи: В прошлом году на собрании американских ученых в Нью-Йорке один из ораторов высказал мысль о том, что настало время, когда наука должна дать новое определение бога.
Эйнштейн: Абсолютно нелепая мысль!
Мэрфи: Но дальше последовало нечто более нелепое. Из этого инцидента возникла публичная дискуссия, в которой горячее участие приняли печать и представители церкви. Общий смысл выступлений последних сводился к тому, что вовлечение бога в научную дискуссию неуместно, ибо наука не имеет ничего общего с религией.
Эйнштейн: Думаю, что обе точки зрения основаны на весьма поверхностных представлениях о науке, как, впрочем, и о религии.
Мэрфи: Но более серьезная и более существенная сторона возникшей ситуации заключается в следующем: публичная дискуссия показала, что ученый, о котором я говорил, выразил мнение широкой публики. Во всем мире, особенно в Германии и Америке, люди обращаются к науке в поисках духовной поддержки и вдохновения, которых им, по всей видимости, не может дать религия. В какой мере современная наука может удовлетворить эту потребность? Я бы хотел, профессор, услышать Ваше мнение по этому вопросу.
Эйнштейн выступает в Гетеборге, Швеция. 1923 г.
Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, – это ощущение таинственности. Оно лежит в основе всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал этого ощущения, кажется мне если не мертвецом, то, во всяком случае, слепым
Эйнштейн: Если говорить о том, что вдохновляет современные научные исследования, то я считаю, что в области науки все наиболее тонкие идеи берут свое начало из глубоко религиозного чувства и что без такого чувства эти идеи не были бы столь плодотворными. Я полагаю также, что та разновидность религиозности, которая в наши дни ощущается в научных исследованиях, является единственной созидательной религиозной деятельностью в настоящее время, ибо ныне вряд ли можно считать, что и искусство выражает какие-то религиозные инстинкты.
Салливэн: Как можно утверждать, будто высшие научные достижения выражают религиозное чувство? Разве религия не возникает, по сути дела, из попыток найти смысл жизни? Разве ее возникновение не обусловлено главным образом тем, что в мире есть страдание?
Эйнштейн: Не думаю, чтобы высказанная Вами концепция религии была очень глубокой. Истинно великие религиозные люди исходили совсем из другой концепции.
Салливэн: Но вы, профессор, согласны с тем, что Достоевский является великим религиозным писателем?
Эйнштейн: Согласен.
Салливэн: Мне кажется, что основная проблема, рассмотрением которой он занимался, – это проблема страдания.
Эйнштейн: Я не согласен с Вами. Дело обстоит иначе. Достоевский показал нам жизнь, это верно; но цель его заключалась в том, чтобы обратить наше внимание на загадку духовного бытия и сделать это ясно и без комментариев. При таком подходе никакой проблемы не возникает, и Достоевский никакой проблемы не рассматривал.
Мэрфи: И современная наука вряд ли занимается рассмотрением проблем. Я имею в виду высшие отрасли научного исследования. Цель вашей работы, профессор, и работ Ваших коллег, таких как Макс Планк, Шредингер, Гейзенберг, Эддингтон и Милликен, выше и шире той цели, которую ставили перед собой ученые-исследователи старой школы. Для тех главный интерес заключался в более близкой проблеме: открытии законов природы, которые позволили бы человеку управлять силами природы и использовать их для собственной пользы и удобства. Это особенно заметно на примере открытий в области химии или электротехники. Обывательский разум и поныне все еще вопрошает, какая польза от теории относительности. Обывательский разум не настолько дальновиден, чтобы понять, что теория относительности – это лишь первая фаза той работы, которую вы и ваши коллеги ведете по созданию величественного здания научной теории, венцом которой явится подлинная космология, основанная на объективном изучении фактов. Эта теория должна в конечном счете занять место тех субъективных проекций нашего разума на внешний мир, которые составляют основу философий Аристотеля и Платона, а на самом деле всего, что в наши дни называется философией. В какой мере научная теория, создаваемая Вами и Вашими коллегами, может стать философией, способной предпринять попытки установления практических идеалов жизни на руинах религиозных идеалов, потерпевших в последнее время столь ужасное поражение? Именно в этом заключается наша главная тема.
Эйнштейн: Практическая философия означала бы философию поведения. Я не считаю, что наука может учить людей морали. Я не верю, что философию морали вообще можно построить на научной основе. Например, вы не могли бы научить людей, чтобы те завтра пошли на смерть, отстаивая научную истину. Наука не имеет такой власти над человеческим духом. Оценка жизни и всех ее наиболее благородных проявлений зависит лишь от того, что дух ожидает от своего собственного будущего. Всякая же попытка свести этику к научным формулам неизбежно обречена на неудачу. В этом я полностью убежден. С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что высшие разделы научного исследования и общий интерес к научной теории имеют огромное значение, поскольку приводят людей к более правильной оценке результатов духовной деятельности. Но содержание научной теории само по себе не создаст моральной основы поведения личности.