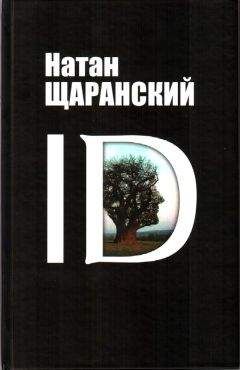По крайней мере, они сумели правильно различить в мутных водах пропаганды главную мысль — дореволюционная история СССР должна строиться вокруг русского национальною прошлого,— многие не смогли и этого [159]. В действительности, роль, отведенная нерусским народам, приводила в глубочайшее смятение многих из тех, кто пытался переписать советский исторический нарратив. Это видно из списка вопросов, направленных Жданову в мае 1936 года его личным секретарем А. Н. Кузнецовым, который показывает, что многие историки размышляли над самыми простыми вопросами: должен ли нарратив представлять собой «единый исторический процесс России с включением истории отдельных народов, игравших большую роль в ходе развития этого процесса, или же давать отдельные очерки истории Ср [едней] Азии, Закавказья и др.?». Если верить Кузнецову, «тов. Радек посоветовал давать единый исторический процесс, включая в него отдельные народы в определённых пунктах, когда они проходили в связь с Россией. Но тут есть колебания и неясность, и почти все авторы на этом спотыкаются». Столь же затруднительными были вопросы оценки: «Внес ли царизм прогрессивные черты в жизнь Закавказья и Средней Азии своими завоеваниями (процесс централизации, развитие капитализма, и др.)», — вопрос, по всей видимости, спровоцированный тем, что в «Замечаниях» старый режим назывался «тюрьмой народов». Этим были вызваны и другие вопросы: заслуживает славянофильство положительной или отрицательной оценки, и какие именно события должны стать вехами новой периодизации. Кузнецов отметил, что, хотя авторы «бьются над этими вопросами», причина их трудностей кроется в невозможности найти решение таких щекотливых вопросов в официальных исторических журналах или у авторитетных специалистов [160].
Подобная неопределенность застала врасплох даже старых членов партии. Поучителен случай Н. И. Бухарина. Несмотря на крупные политические поражения в конце 1920 годов, в середине 1930 годов Бухарину удалось сохранить влиятельную должность в «Известиях»; кроме того, он по-прежнему принимал активное участие в решении идеологических вопросов и в разработке край, не важного исторического катехизиса в том числе [161]. Тем не менее, в феврале 1936 года он подвергся суровой критике за несколько статей в «Известиях»: в одной из них он называл русских до 1917 года «нацией Обломовых», в другой говорил о том, что недоверие нерусских народов к русским является естественным следствием царской колониальной политики. И хотя обе идеи долгое время были частью большевистского дискурса (Ленину особенно нравилось сравнение с Обломовым), мощная кампания против Бухарина послужила сигналом возрастающей чувствительности к данным темам [162]. Один за другим известные писатели, например, М. А. Булгаков и Демьян Бедный, также в течение 1936 года, были обвинены в неуважительном отношении к дореволюционному русскому прошлому. Менее важные авторы были немедленно арестованы. Подробное обсуждение каждого дела приводится в главе 5. Здесь нельзя не отметить тот факт, что даже наиболее сообразительные члены советской элиты не сразу сумели усмотреть возникновение нового направления партийной линии в руссоцентристских намеках в прессе в 1936 году. Очевидно, ее развитие носило ситуативный, а не заранее продуманный характер, как бы оно ни обсуждалось партийным руководством за закрытыми дверями [163]. Таким образом, можно говорить о середине 1930 годов как о периоде идеологического перехода, который затянулся на удивительно долгое время.
Однако, несмотря на отсутствие строгой последовательности и закономерности в создании новой исторической линии, предполагать, будто, у партийной верхушки не было общего видения истории, государства и места в нем русского народа, было бы опрометчивым. Скандалы вокруг Бухарина, Булгакова и Бедного косвенно характеризуют значительный идеологический сдвиг, который более очевиден в отчете Бубнова от декабря 1936 года, где он описывает точку зрения Жданова на происходившие в то время поиски приемлемого учебника. Хотя секретарь ЦК охотно признавал, что некоторые из вариантов учебника, попавшие на его стол, «в сравнении с прошлым периодом большой шаг вперед (от “социологических" учебников к марксистским)», он вынес следующее резюме: «Ни один учебник не может быть признан удовлетворительным». Обеспокоенный тем, что историки по-прежнему «бегают от некоторых вопросов, обходят их», Жданов предложил собственную интерпретацию завоевания Россией южных территорий. По его мнению, правильной парадигмой для объяснения интеграции Украины и Грузии в Российскую империю в период с 1654 по 1801 год являлась «теория наименьшего зла», к тому же у обоих государств имелись религиозные интересы, более совместимые с российскими, нежели с интересами Польши, Османской империи, Персии и других держав соответствующего региона. Соответственно, подчинение своему северному соседу оказалось для этих стран наиболее привлекательным исходом дела, поскольку «самостоятельной Грузия в то же время (в сложившейся исторической обстановке) быть не могла». (Подобное утверждение очевидно применимо и к Украине). Вероятно, осознавая, что подобная неоколониалистская позиция отдает ересью, Жданов добавлял: присоединение к России — «не абсолютное благо, но из двух зол это было наименьшее» [164]. Жданов перевернул и целый ряд других историографических положений, реабилитировав, в частности, некоторые аспекты истории церкви, например роль монастырей, поскольку они способствовали укреплению государства [165]. Эти и другие указания отражали всеобъемлющие этатистские симпатии — как заметил Жданов в приступе необычайной откровенности: «Собирание Руси — важнейший исторический фактор» [166].
Последовавшее постановление комиссии по созданию учебника, подготовленное Бубновым после дополнительных консультаций со Ждановым, проясняет, как развивалось восприятие истории у партийного руководства. Начав с общих жалоб на то, что историки не смогли полностью порвать с социологическим схематизмом «школы Покровского», Бубнов перечисляет ряд конкретных ошибок в интерпретации тех или иных событий. В первую очередь, из-за непочтительной трактовки истории церкви — в особенности, крещения Руси в X в. — не была должным образом отмечена прогрессивная природа грамотности и культуры, полученных через Византию [167]. Также без должного внимания остались прогрессивные стороны укрепления Московского княжества и реформ Петра I. Критика вхождения Украины и Грузии в состав Российской империи, согласно Бубнову, была также неисторичной, поскольку альтернативы присоединению к северному православному соседу были одинаково непривлекательны для этих стран [168]. Объединяла все осужденные историографические позиции их несовместимость со взглядами партийной верхушки на исторический процесс, получившими все больший государственнический уклон.
К началу 1937 года появилось довольно много рукописей учебника истории, но лишь немногие удостоились последней стадии рецензирования. Вмешательство партийного руководства только подтверждает тот факт, что возвращение к дореволюционной истории России было призвано поддержать этатистские приоритеты. Особенно показательны в этой связи указания Жданова и члена ЦК Я. А. Яковлева авторам имевшего все шансы на успех учебника, составленного под руководством А. В. Шестакова. Предписав Шестакову и его коллективу «всюду усилить элементы советского патриотизма, любви к социалистической родине», два руководителя выдали целый ряд инструкций по конкретным вопросам. Для начала, историки должны были переработать свою позицию по девяти вопросам, касающимся советского революционного и промышленного развития. Однако гораздо любопытнее рекомендации по дореволюционным темам — они отражают не только руссоцентричные настроения, но и сильную заинтересованность в вопросах государственного строительства и легитимности:
«10) вставить вопрос о Византии; 11) лучше объяснить культурную роль христианства; 12) дать о прогрессивном значении централизации государственной власти; 13) уточнить вопрос о 1612 г. и интервентах …; 14) ввести Святослава "иду на вы"; 15) подробнее дать о немецких рыцарях, использовав для этого хронологию Маркса о Ледовом побоище, Александре Невском и т. д.; 16) средневековье Зап [адной] Европы не включать; 17) усилить историю отдельных народов; 18) убрать схематизм отдельных уроков; 18) [sic!] исправить о Хмельницком; 20) то же и о Грузии; 21) реакционность стрелецкого мятежа…» [169]
Через два месяца Шестаков передал дополнительные критические замечания членам своей бригады: «В изложении учебника найден ряд недостаточный объяснений, есть уклоны, много схематизма, нет живой души. Личность Ивана Калиты не должна быть вполне отрицательной. Брак с Софией Палеолог или объяснить, или опустить. О славянах дать больше и точнее. …О типографии при Иване грозном сказано плохо, также и мануфактуре при Алексее Михайловиче. О… феодальной раздробленности яснее и побольше. …Время Ивана Калиты больше осветить политически…» [170]. Вдобавок, членов редакторского коллектива ознакомили с рецензиями на рукопись крупных историков, С. В. Бахрушина, К. В. Базилевича и Б. Д. Грекова, — они точно так же, что неслучайно, подчеркивали те аспекты исторического нарратива, которые имели отношение к государственному строительству [171]. Сталин вновь повторит эти приоритеты в своей собственной обширной редакторской правке учебника, выполненной летом 1937 года [172]. Очевидно, предполагалось, что историческая преемственность с дореволюционной Россией обеспечит сталинскому режиму чувство легитимности, — марксизм-ленинизм в чистом виде оказался на это неспособен.