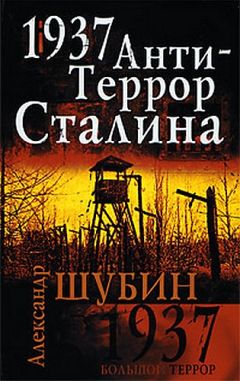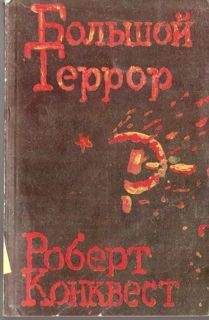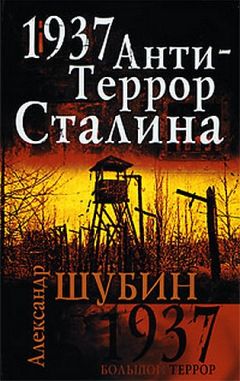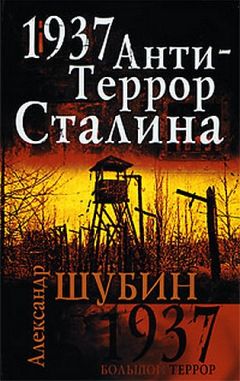Главная надежда Троцкого и его сторонников — на новую революцию в СССР. Он считает, что эта революция будет носить политический, а не социальный характер. Сложившийся в СССР социальный строй Троцкий считает необходимым сохранить. Только бюрократический абсолютизм должен быть ограничен и поставлен под контроль системой советов.[111] Троцкисты готовы вернуться к требованиям, которые во время Гражданской войны выдвигали противники большевиков — левые эсеры, анархисты, меньшевики, матросы Кронштадта в 1921 г.: советская демократия вплоть до легализации советских партий (то есть партий, признающих советскую власть), свобода профсоюзов и заводских комитетов. Чтобы «плагиат» не был заметен, в этом же номере «Бюллетеня оппозиции», где опубликованы эти предложения, Троцкий выступил с большой статьей, доказывая «контрреволюционный характер Кронштадтского мятежа». Троцкисты оставались большевиками, выступали за сохранение планового хозяйства («демократического»), контроля над ценами со стороны «потребительской кооперации», готовы были поступиться интересами крестьянства.[112] Нападая на бюрократию, Троцкий, как и в 20-е гг., считает ее экономическую власть пока полезной: «Без планового хозяйства Советский Союз был бы отброшен на десятки лет назад. В этом смысле бюрократия продолжает выполнять необходимую функцию».[113]
Несмотря на радикализм риторики своих статей, Троцкий собирается бороться со сталинизмом, а не с бюрократическим классом.
Глава II
Антитеррористическая операция
Насколько оппозиционные настроения отражались в высшем партийном руководстве? В 1936 г. меньшевик Б. Николаевский выпустил в «Социалистическом вестнике» статью «Как подготовлялся московский процесс. (Из письма старого большевика)», составленное им по мотивам бесед с Бухариным и другими информированными коммунистами. Из письма следовало, что в руководстве ВКП(б) идет борьба сталинистов и «умеренных», к которым относился и Киров. Схема борьбы между сталинистами и «умеренными» в руководстве господствовала в советологии вплоть до открытия советских архивов. Проанализировав архивные материалы, О.В. Хлевнюк делает вывод: «Известные пока архивные документы не подтверждают, что в Политбюро в 30-е годы происходило противоборство «умеренных» и «радикалов». Один и тот же член Политбюро в разные периоды (или в разных ситуациях в одно и то же время) занимал разные позиции — как «умеренные», так и «радикальные». Это определялось многими обстоятельствами, но, главным образом, зависело от того, какой линии придерживался Сталин, за которым, судя по документам, оставалось последнее определяющее слово.
Это не означает, конечно, что в политбюро не было столкновения различных интересов. Напротив, архивных свидетельств о конфликтах удалось выявить достаточно много. Как правило, все они предопределялись различиями в ведомственных позициях членов Политбюро».
В партии существовало множество бюрократических кланов, роль которых особенно возросла как раз после того, когда сталинская группировка победила всевозможные оппозиции. Теперь партийцы делились не по взглядам, а по принципу «кто чей выдвиженец», «кто с кем служил» и «кто под чьим началом работает». Верхушка каждого клана упиралась в человека, который мог говорить со Сталиным почти на равных, который вместе с ним «революцию делал», занимая важные посты еще при Ленине. При этом и сами оппозиционеры не теряли старых связей. Сталинский партийный монолит опять трескался.
Наиболее мощными были территориальные группировки (ленинградская, киевская, ростовская и др.). Одновременно формировались и отраслевые кланы хозяйственной бюрократии, пользовавшейся известной автономией. О.В. Хлевнюк пишет о Наркомате тяжелой промышленности: «В 30-е гг. он превратился в одно из самых мощных и влиятельных ведомств, способных заявлять и отстаивать свои интересы. Значительное место среди этих интересов занимали претензии работников наркомата на относительную самостоятельность, их стремление обезопасить себя от натиска партийно-государственных контролеров и карательных органов».[114] Так же он характеризует и главу Наркомтяжпрома: «Историки, изучавшие деятельность одного из ведущих членов сталинского Политбюро, Орджоникидзе, отмечали ее ярко выраженный ведомственный характер. Переведенный на очередной пост, он существенно менял свои позиции, подчиняясь новым ведомственным интересам».[115]
Но стремление к ведомственной автономии — это тоже позиция. Именно из нее вытекало поведение, которое, схематизируя, можно представить как «умеренность». В действительности соратники не заставляли Сталина принимать нужные им решения, а уговаривали его. Сталин мог отправить любого из них «на другую работу», но не мог не советоваться. Ведомственно-клановые интересы способствовали при прочих равных покровительственному отношению к подчиненным, среди которых было немало бывших оппозиционеров, внимательное отношение к аргументам спецов. Сталин же как гарант целостности системы и неумолимого продвижения по пути коммунистических преобразований должен был «выкорчевывать» эти человеческие отношения между «винтиками» государственной машины. Тем более, что «винтики» были «заражены» жизнелюбием, которому способствовало всевластие бюрократии. «Термидорианское перерождение» партии, о котором говорил Троцкий, стало и проблемой для Сталина, особенно теперь, когда он сам перестал быть покровителем партийного аппарата и стал отвечать за государство в целом, за государственный центр, которому противостоит жизнелюбивая, эгоистичная бюрократия. После разгрома общества именно она стала источником сопротивления человеческого начала государственной идее и социально-экономической марксистской схеме.
Ведомственная переменчивость, о которой пишет О-В. Хлевнюк, носила социально-экономический характер, но сама защита людей от центра была непосредственно связана с отношением к репрессиям, с устойчивой «умеренностью» по этому вопросу. Так, заместитель Генпрокурора СССР А. Вышинский, выступая на очередном процессе «вредителей» (новая волна таких репрессий прокатилась в 1933 г., как бы ставя финальную точку по итогам процессов Первой пятилетки), призвал к развертыванию дальнейших репрессий в Наркоматах тяжелой промышленности и земледелия, которыми руководили С. Орджоникидзе и Я. Яковлев. Наркомы воспротивились этому, показав, что «вредители» на самом деле не так уж и виноваты, а может быть, вовсе не виноваты. Они руководствовались деловыми соображениями. В сентябре 1933 г. Сталин писал: «Поведение Серго (и Яковлева) в истории о «комплектности продукции» нельзя назвать иначе, как антипартийным… Я написал Кагановичу, что против моего ожидания он оказался в этом деле в лагере реакционных элементов партии».[116] Теперь признаком антипартийности и реакционности стало противостояние репрессиям, проводимым даже в агитационных целях.
Партийцев рангом пониже за антипартийное и тем более реакционное поведение немедленно бы исключили из партии. Но кем заменить старого друга Орджоникидзе и верного, хотя и способного ошибаться Кагановича. В том же письме Молотову Сталин жалуется, что нельзя долго оставлять на хозяйстве Куйбышева — он может запить. Нужно срочно готовить смену — послушных, исполнительных руководителей, способных вести дела по разработанной Сталиным стратегической линии.
На волне «большого скачка» мощь ведомственных и территориальных кланов росла. О.В. Хлевнюк пишет об этом: «Могущественные советские ведомства, возглавляемые влиятельными руководителями, были не просто проводниками «генеральной линии». Приобретая немалую самостоятельность и вес в решении государственных проблем, они во многих случаях диктовали свои условия, усугубляя и без того разрушительную политику «скачка»: постоянно требовали увеличения капитальных вложений, противодействовали любому контролю над использованием выделенных средств и ресурсов и т. д. Огромный партийно-государственный аппарат в полной мере демонстрировал все прелести бюрократизма, косности, неповоротливости и, как обычно, настойчиво отстаивал свои корпоративные права».[117]
10 июля 1931 г. было принято постановление Политбюро, гласившее: «Никого из специалистов (инженерно-технический персонал, военные, агрономы, врачи и т. п.) не арестовывать без согласия соответствующего наркома (союзного или республиканского), в случае же разногласия вопрос переносить в ЦК ВКП(б)».[118]
О.В. Хлевнюк констатирует: «В первой половине 30-х годов каждый член Политбюро считал неприкосновенным свое собственное право карать или миловать своих подчиненных и крайне болезненно реагировал на попытки вторжения в его ведомство всякого рода посторонних контролеров и инспекторов».[119] Такой иммунитет партийно-хозяйственных кланов, очевидно, противоречил сталинской концепции монолитной партии. Но в период борьбы фракций, а затем «бури и натиска» Первой пятилетки Сталин предпочитал опираться на бюрократических «баронов», признавая их права решать судьбу своих «подданных».