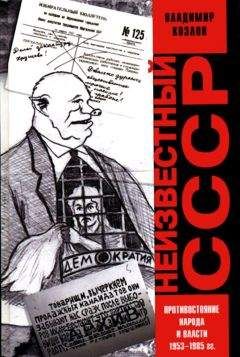Опубликованные в последнее время документы дают возможность оценить подобные догадки и предположения и хотя бы отчасти объяснить необычность поведения московских властей, а их в Горлаге (как в других особых лагерях, где вспыхивали волнения) представляла специальная комиссия МВД. Прежде всего, подтверждается особая роль Берии и его людей в контактах с забастовщиками. Объявление, которое сделала «московская комиссия» сразу после своего прибытия в лагерь 5 июня 1953 г., начиналось весьма необычно. Комиссия подчеркивала особую роль исключительно Л. П. Берии (не ЦК, не правительства), в решении судьбы заключенных Горлага: «В Москве стало известно о беспорядках в вашем лагере. Для того, чтобы на месте разобраться со сложившейся обстановкой — первый заместитель председателя Совета Министров Союза ССР и министр внутренних дел Лаврентий Павлович Берия уполномочил нашу комиссию лично и детально разобраться и принять необходимые решения».[99]
Это заявление нарушало принятые нормы бюрократической лексики и сообщало о поручении Берии так, как до сих пор говорили только о воле самого «товарища Сталина». Последующие оповещения о тех или иных послаблениях в режиме, исходившие непосредственно от комиссии, также подтверждали ее достаточно высокий статус. Убедительности придавали и проводимые по ходу дела служебные расследования, в результате которых ряд военнослужащих был обвинен в незаконном применении оружия и превышении власти. Свои заключения комиссия передала в прокуратуру для привлечения виновных к уголовной ответственности.[100]
Если верить свидетельству П. А. Френкеля (1954 г.), бывшего узника Горлага, руководитель комиссии Кузнецов, полковник, отправленный руководить генералами, на первой встрече с заключенными 1-го лагерного отделения Горлага представился «референтом Лаврентия Павловича Берии».[101] Это утверждение подтверждается и рядом мемуарных источников.[102] Судя по решительности и быстроте, с какими комиссия пошла на ряд немыслимых ранее уступок заключенным, Берия, напутствуя своих представителей, не только дал им широкие полномочия, но и определил политический контекст взаимоотношений с узниками особых лагерей, в конечном счете с потенциально оппозиционными слоями советского общества. Это косвенно свидетельствует о том, что советский политический истеблишмент был настроен на смягчение порядков в лагерях, ужесточение контроля за разлагавшимися от безнаказанности лагерными «начальниками», большими и малыми — от рядового охранника до начальника управления лагерей.
В каком-то смысле уступки были предопределены уже в Москве, где, очевидно, начали обозначать контуры будущих изменений в карательной политике режима. В противном случае, жестокое (и успешное!) подавление Восстания в Горном лагере вполне могло стать поводом не к смягчению политики, а толчком к началу нового витка репрессий, как это уже бывало раньше. Если в Горлаге и имела место провокация, то она была скорее местной импровизацией, чем негласным указанием Москвы. Последняя все-таки восприняла требования гулаговского населения не только в контексте традиционного смутьянства, но и с позиций большой политики. Все это было сдобрено необычным беспокойством о том, чтобы гулаговские церберы «еще чего-нибудь не наделали».[103]
Обращение заключенных Горного лагеря к Советскому правительству, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР и ЦК КПСС от 27 июня 1953 г. фактически являлось краткой историей сталинского политического и юридического произвола, применения репрессий как универсального ключа к решению не только политических, но также экономических и даже социальных проблем. «Прошлое доказывает, — простодушно писали авторы обращения, — что чем сложнее проблемы приходилось решать Советскому государству, тем больше было репрессированных». Заключенные как будто бы находили оправдание жестокости системы, соглашаясь с тем, что «великое созидание требовало строгой государственной дисциплины, следовательно, и жертв; Для содержания репрессированных государством была создана система исправительно-трудовых лагерей, ибо экономика страны не могла вынести бездействия многих миллионов, в рабочей силе которых ощущалась острая потребность». Результат, налицо, писали заключенные Горлага, на собственной шкуре, прочувствовавшие сталинские методы строительства коммунизма: «Города и рабочие поселки, рудники и шахты, каналы и дороги, фабрики и заводы, сталь и уголь, нефть и золото — все величайшие сооружения эпохи социализма — результат не поддающегося описанию титанического созидания (так в тексте. — В. К.) к человеку, в том числе лаг-населению». Соответственно, добавляли авторы документа, «усиливался лагерный режим, и условия жизни в лагерях становились все тяжелее»: лагерное население влачило «свое жалкое существование в совершенно невыносимых условиях», работало по 12–14 часов в сутки. При этом у «отдельных заключенных», как осторожно отмечали составители документа, крепко засела мысль о том, что их здоровье и жизнь нужны постольку, поскольку нужна их рабочая сила.
Пытаясь объяснить причины своего протеста, авторы документа ссылались на беспросветность и бесперспективность такого существования: нереальные сроки наказания и их логический конец — болезнь, инвалидность и смерть в неволе, в лучшем случае — высылка после отбытия срока. Поэтому подавляющее большинство тянет свою лямку «с ропотом, в ошибочной надежде на какие-либо мировые события». Заключенные, писавшие обращение к высшей власти, понимали, что ГУЛАГ при Сталине стал настолько большим и настолько перегруженным «созидательными» функциями, что им давно уже невозможно управлять как обычной тюрьмой: «мы поняли, что мы являемся значительной частью производительных сил нашей социально-экономической формации, а отсюда имеем право предъявить свои справедливые требования, удовлетворение которых в настоящий момент является исторической необходимостью». В свое время, считали заключенные, практика управления огромной сферой принудительного труда привела de facto к созданию извращенных форм лагерного «самоуправления» — использованию в качестве проводников начальственных распоряжений и социальной опоры «обслуги», в большинстве своем состоявшей, из стукачей, и «сук». Оказывая помощь лагерной администрации в деле соблюдения режима, эта группа заключенных «с целью выслуживания перед начальством превращалась в банду насильников и убийц. Эти „блюстители порядка“ не останавливались ни перед какими преступлениями (избиение, подвешивания, убийства)». Ответом были вражда и ненависть остальных заключенных, в конце концов, вылившаяся в террор против стукачей в особых лагерях и «войну» «воров» с «суками» в обычных ИТЛ. Почувствовав недостаточность или ослабление рычагов воздействия на лагерное население, лагерная администрация попыталась опереться «на отдельные группировки, беря в основу национальный признак, разжигая национальную вражду и ненависть. Были случаи, когда отдельные представители оперчекистского аппарата вручали холодное оружие доверенным лицам для расправы и терроризации неуголовного элемента».
Обращение заключенных Горлага к высшим властям было пропитано надеждой на то, что «верхи» узнают, наконец, правду о положении в лагерях, попытками истолковать в свою пользу исходившие сверху политические сигналы (амнистия, выступления советского руководства в печати о социалистической законности), тоской по разрушенным при Сталине патерналистским отношениям между народом и властью: «Мы хотим, чтобы с нами говорили не языком пулеметов, а языком отца и сына». К этой патриархальной риторике заключенные добавляли вполне современные аргументы о том, что ГУЛАГ изжил себя, стал пережитком прошлого. Они требовали «пересмотра всех без исключения дел с новой гуманной точки зрения», «признания Незаконными всех решений Особого совещания как неконституционного органа».[104]
В Горном лагере еще тлели очаги сопротивления, в другом особом лагере — Речном, расположенном в районе Воркуты, уже вспыхнули новые волнения, совпавшие по времени с восстанием в Восточном Берлине. Политическое «совмещение» и синхронизация столь значимых событий фактически возводили контроль над ГУЛАГом в разряд глобальных проблем выживания советского режима в целом. Подавление выступления в Речлаге также было основано на необычном сочетании жесткости, уступок и широкомасштабных обещаний «московской комиссии». Частичное выполнение этих обещаний запустило процесс, разрешившийся спустя год наиболее ожесточенным выступлением заключенных особых лагерей — забастовками и восстание в Степлаге (май — июнь 1954 г.).