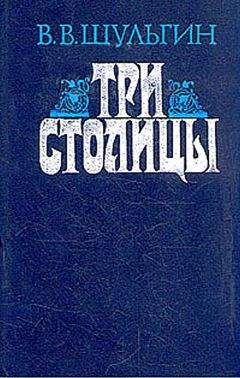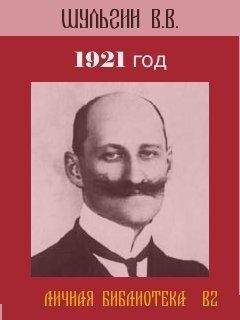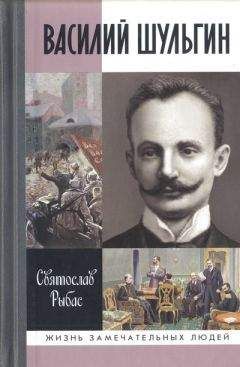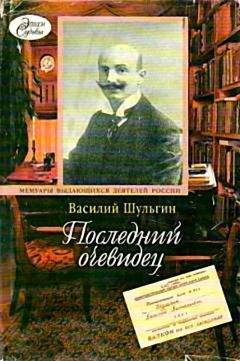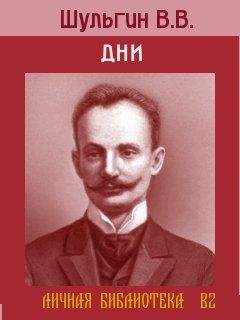Но это путь ужасный. Ибо в этой процедуре гибнут достижения веков. Наш путь должен быть иной.
* * *
Был когда-то великий путь «из Варяг в Греки». А теперь надо создать новый путь еще большего значения: «из Жидов — в Варяги». Коммунисты да передадут власть фашистам, не разбудив Зверя.
О, не буди меня, зефир младой весны,
Зачем меня будить?
* * *
Зачем его будить? Чтобы он разнес последние остатки культуры, которые с таким трудом восстановили неокоммунисты при помощи нэпа? Для того, чтобы, разгромив «жидов», он вырезал всех «жидовствующих», то есть всех более или менее культурных людей, ибо все они на советской, то есть на «жидовской», службе?
Нет, не надо черного бунта…
* * *
Елизавета, Екатерина, Александр I не привлекали к своему перевороту Зверя, и правление их было славно и гуманно…
Вот пример, по которому надо идти. Скусить верхушку!
А ты, великий молчальник, безмолвствуй. Ибо, когда ты говоришь, падают скалы. Падают тебе же на голову. Правда, голова твоя крепка, но все же от этих каменных прикосновений балдеет она, бедная, на столетия… Так к чему же?
* * *
Пахарь, в поле мирно жни,
Бодрствуй, властвовать могущий!..
Я поднялся выше. По едва проторенной тропинке прошел к памятнику Святого Владимира. Низовье Киева, Подол, и замерзший Днепр были передо мною. Все было серо, туманно.
* * *
Другая парочка, которая приютилась здесь, должно быть, просто не видела ничего. А если что-то видела, то и «ничего» казалось ей прекрасным. Она была хорошенькая и тонколицая, хорошо одетая, в серой шубке, малиновой шляпке, ботиках. Говорила низким, угловато-изысканным голосом, каким звучат на юге петербуржанки. Москвички тоже говорят низко, но певуче. Для моего киевского уха ее голос звучал недостаточно женственно. Но чистая русская речь была безупречна. Увы, я не мог разобрать: уцелевшая ли она аристократка с берегов Невы или же «оневившаяся» еврейка.
Черт знает, что такое!
Обычай будет наш таков
Вы — мужички, жиды — дворяне
Нет, она, кажется, все-таки русская. Но это «кажется» — недостаточно ли оно показательное доказательство.
* * *
А третья парочка, одетая попроще, сползала по крутой, обледеневшей дорожке. Было там очень скользко, барышня боялась и по сему поводу пищала талантливо-переливчато, преподнося памятнику Равноапостольного ассортимент кокетства, сервированного a la Kieff. Mes compliments— старому черному Грушевскому: эти балакали по-украински. Первые и, кажется, последние, которые изъяснялись «на мове» в столице Украины.
* * *
Солдатская песня, три парочки, три «национальности», да зимний туман — вот все, что я вынес из посещения Владимирской горки…
И несколько мыслей.
Я поднялся еще выше и взял к Михайловскому монастырю. Вот знакомые, старого, волнующего рисунка ворота в Михайловское подворье. Над воротами, где раньше была икона, в рамке сосновых ветвей.
* * *
Но кто-то успокаивающий как бы взял меня за руку:
— Помнишь ли ты одну синагогу? Помнишь?
И я вспомнил. В Галиции, в 1915-м, в местечке Тухов Ничего не осталось. Голые стены, побитые окна, разрушено, осквернено.
А кому там молились?
— Богу Единому, — ответил я.
Некто успокаивающий отпустил мою руку.
* * *
Но, да простит меня этот невидимый и кроткий, все же тогда была война. А теперь как будто бы война кончилась.
Да кончилась ли? Или только начинается по-настоящему? (…)
* * *
Монастырь стоял «златоверхий». В шестнадцатом веке один он только в Киеве был крыт золотом, и это может служить неким утешением сомневающимся. В XX веке все храмы златоглавые.
* * *
Мне пора было озаботиться приисканием гостиницы. Где я ее нашел, сие неважно для читателя, но любопытно для ГПУ. Поэтому применим латынь: nomina odiosa sunt[12].
Третьеразрядная была гостиница. Чуточку я волновался, сказать по правде, когда я входил.
А вдруг документ окажется «не того». Ведь он, разумеется, «липа». Да и вообще жутко. Вопросы какие-нибудь каверзные зададут. Или даже не каверзные — случайные, но которые с несомненностью обнаружат мое зияющее невежество.
Вошел.
— Есть номер?
От столика поднял голову молодой человек в бекеше. Лицо?
Лицо — «не весьма». Бритый, красивый, но не разберешь: деникинец или чекист? Бывала такая порода «в старину»: некие номады — из «чека» в «контрразведку» и обратно.
Он рассмотрел меня не то равнодушно, не то пронизывающе.
Сказал:
— Номер есть.
— В какую цену?
— Два с полтиной.
— Покажите.
Он крикнул в коридор:
— Хозяйка, покажите номер!
Выплыла хозяйка. Широкая масленица. Запела по ма-асковски…
— Намерочек вам? Пажалуйте.
* * *
«Намерочек» быд дрянной. Цена зверская. Два с половиной рубля — это значит доллар с лишним. За эту цену я имел бы прекрасный номер в Париже и в Ницце. Ах, все равно. Лишь бы документ «не выдал»…
* * *
Деникинец-чекист взял его и ушел. Я пережил несколько неприятных минут. Затем стук в дверь.
Он вошел и задал мне несколько вопросов. Один был труден для меня. Но я как-то сообразил и ответил.
Ничего. Оказалось, впопад. Он кивнул головой. Ушел. Потом пришел снова и принес документ. Сказал:
— В книгу вписано. А заявлю позже.
Когда он затворил дверь, у меня было желание не то потанцевать, не то перекреститься. Документ не выдал. Спасибо контрабандистам!
Пришла хозяйка. Я понял, что она хочет — деньги вперед. Вытащил червонец. Большая бумажка, беловатая, водянистая какая-то. Но, пока что, эта бумажка деньги: пять долларов дают!
— Сдачу сейчас принесу.
— Не надо, я пробуду несколько дней.
Она ушла, очень довольная.
* * *
«Наконец, мы одни!» Я со своим телом. Йоги советуют думать: «Неужели моя рука, нога, грудь, живот, голова — это я?»
Нет, «я» — это нечто другое, отдельное от тела, и потому «мы одни, мы вдвоем»…
* * *
Это одиночество вдвоем приятно. Оно просто необходимо для существа мыслящего. Но, кроме того, в данном случае приятно ощущение безопасности. Как-никак, это постоянное внимание утомляет. Ведь сквозь канву наблюдений я все время ощупывал глазами каждого встречного и чувствовал всех, кто у меня за спиною. Сколько поймано взглядов за эти часы и сколько из них оценены как подозрительные. Сколько раз казалось, что кто-то пристал. Сколько раз это проверялось… Не так страшно в общем, но напряженно. Прежде чем войти сюда, я сделал точную проверку, нет ли хвоста, т. е. нарочно разыскал совершенно пустынную улицу. Слава Богу, все было в порядке.
И вот на время — я в полной безопасности… Действительно, кого сейчас бояться? Гостиничные уконтентованы, а в участке я еще не заявлен. Самое выгодное положение. Власть предержащая еще ни в каком виде не знает о моем существовании. Вдруг искусительная мысль пришла: а что, если этот деникинец-чекист гораздо тоньше, чем я о нем думаю? А что, если сразу поняв, какая я птица, он уже сообщил в ГПУ, не подав мне и вида? Может ли это быть?
Глупости! Мнительность…
* * *
Буду писать письмо. Воображаю, как там, дома, беспокоятся.
«Дома». Вот ирония! Дома — это значит где-то там во Франции, Сербии, Польше. И это в то время, когда мой настоящий дом, «старый дом, где он родился», — тут под боком, через несколько улиц. Неужели я его увижу?
Конечно. Вот стемнеет, и я могу идти…
* * *
Но пока — письмо. О, как чертовски труден этот ключ. Но зато, если бы шифровальщики всего мира колдовали бы над этим лоскутком плохой бумаги, они не выжмут из него тех нескольких слов, которые прочтут «там»:
«Я — осторожен, о, очень! Все благополучно пока. Россия жива. Надейтесь, верьте…»
* * *
Но труднее ключа правописание. Кажется — пустяки не писать твердый знак, ять, и с точкой, а вот так рука и тянется. Приходится быть ужасно внимательным. Оказывается, нет тебе покою и наедине. Да к тому же чужой почерк изобретай. Предосторожность, может быть, излишняя, но все же. Письма заграничные идут, конечно, в черный кабинет. Там могут знать мой почерк. Зачем же давать «кончик», если его можно избежать?
* * *
Нет, конечно, никто даже из тех, кто «знает» (а их самое ограниченное число), не представляет себе, где я. Я — в Киеве!.. Это покажется им чудовищным. А между тем это так просто. Они, наверное, думают, что дома, заборы, камни на мостовой узнают меня и закивают:
— Вот он!
А на самом деле до сих пор я не встретил ни одного знакомого лица. Никого…
Там, где-то далеко, «благословенный Прованс». Я вспомнил о нем потому, что, проезжая однажды мимо великолепных гор, столпившихся к Тулону, я читал «La maison des hommes vivants»[13], фантастический рассказ, приуроченный автором к этим местам.