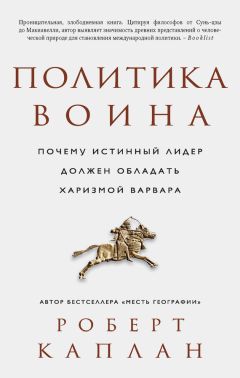Холокост повлиял – и подвергся влиянию – на культ страдания, который расцвел как следствие 1960-х гг., когда женщины, афроамериканцы, коренные американцы, армяне и прочие укрепляли свою идентичность через публичное обращение к притеснениям, испытанным в прошлом. Этот процесс был связан и с Вьетнамом, с войной, в которой фотографии жертв среди мирного населения – например бегущей девочки, облитой горящим напалмом, – «заменили традиционные образы героизма» [4].
Дополнительное значение холокост приобрел после победы Запада в холодной войне, когда провал коммунизма привлек особое внимание к массовым убийствам, совершенным Сталиным и Мао. Очередным напоминанием послужили злодеяния в Боснии и Руанде с их зловещим сходством с холокостом, особенно в части бюрократических аппаратов смерти. Благодаря отождествлению с холокостом мы научились воспринимать новые жертвы не просто как массу белых или черных тел, но как личности, у каждой из которых своя история. Невообразимое попрание прав человека нацизмом привело к беспрецедентной озабоченности правами человека.
После Второй мировой войны столь же беспрецедентное материальное благополучие, бросающееся в глаза в [американских] пригородах, позволило людям, преимущественно молодежи, приобщиться к высочайшему проявлению альтруизма – не ограниченного семьей или этнической группой, но распространяющегося на все человечество [5]. Возможно, впервые в истории появилось поколение, не имевшее непосредственного опыта бедности, депрессии, войны, оккупации и прочих ужасов, которые человечество веками считало обыденными явлениями повседневной жизни. Холодная война, поскольку была холодной, также оставалась абстракцией; во вьетнамской войне в значительной степени принимали участие представители менее имущих классов. Как показали молодежные волнения 1960-х гг., в этом пригородном коконе сформировался как конформизм, так и утонченный идеализм – желание выйти за границы международной политики, вместо того чтобы заниматься ею и, соответственно, идти на неудовлетворительные нравственные компромиссы.
С окончанием холодной войны у многих появилась уверенность, что мы наконец можем уйти от силовой политики и эгоистических интересов отдельных наций и групп к такому состоянию, при котором будут главенствовать демократия, свободный рыночный капитализм и уважение к правам личности [6]. Падение Берлинской стены породило надежду, что теперь все человечество бодрым маршем двинется в сторону прогресса и процветания. Эту идею Исайя Берлин и Раймон Арон – в русле мыслей Фукидида, Макиавелли, Гоббса и отцов-основателей – заклеймили как нереальную, потому что такой идеал находится за пределами истории, которая никогда не бывает свободна от разделения людей и их конфликтов [7].
На самом деле озабоченность правых республиканцев «ценностями», а либералов – «гуманитарной интервенцией» может быть признаком не столько более высокой нравственности, возникшей после поражения коммунизма, сколько роскошью, ставшей возможной благодаря миру и процветанию страны. Маргерит Юрсенар в своем всемирно известном романе «Воспоминания Адриана» предполагает, что во II в. расширение свобод женщин в Римской империи было результатом благополучной жизни, а не признаком цивилизованности [8]. Даже если увеличение благосостояния в США открывает перспективу более высокой степени альтруизма, нищета и нестабильность в сочетании с ростом населения и урбанизацией в наименее развитых частях света будут порождать все бульшую жестокость, потому что они ограничивают альтруизм рамками национальных и субнациональных групп.
Необходимо иметь в виду, что новая эпоха соблюдения прав человека, о наступлении которой заявляют политики и журналисты, не является ни чем-то совершенно новым, ни вполне реальным. Со времен Цицерона государственные деятели утверждали нравственные принципы для «человеческого сообщества», которые не имеет права отменить ни один диктатор [9]. В 1880 г. британский премьер-министр Уильям Гладстон, уязвленный поведением Бенджамина Дизраэли, расчетливо манипулировавшего властью, подтвердил, что отныне во внешней политике будут главенствовать христианские добродетели и права человека. Гладстон говорил о «новом международном праве», которое будет защищать «неприкосновенность жизни» даже в «горных афганских деревнях» [10]. Разумеется, этого не произошло. После Первой мировой войны президент Вудро Вильсон объявил (вполне в духе Гладстона) о наступлении новой эры соблюдения прав человека, которая так и не наступила. В 1928 г. шестьдесят две страны, включая Японию, Германию, Великобританию, Францию и США, подписали Пакт Бриана – Келлога, объявив войну вне закона и полагая, что общественное мнение позволит воплотить его в жизнь. «Критики, которые насмехаются над этим, – писал госсекретарь Генри Л. Стимсон, – не способны правильно оценить эволюцию мирового общественного мнения после Великой войны» [11]. Но принципы обычно не воплощаются сами собой, как напоминает нам Генри Киссинджер. За этим последовала Вторая мировая война [12].
После Ялтинской конференции президент Рузвельт объявил «конец… односторонних действий, эксклюзивных альянсов, сфер влияния, баланса сил и прочих уловок для достижения цели, которые применялись веками – и всегда заканчивались неудачей» [13]. Вместо этого он предложил «универсальную организацию» – Организацию Объединенных Наций [14]. Спустя несколько недель, в начале 1945 г., Сталин создал сферу влияния, в плену которой более четырех десятилетий находились страны Центральной и Восточной Европы. Черчилль, предчувствуя эту опасность, тщетно уговаривал американцев взять Берлин и Прагу, чтобы опередить наступающую Красную армию.
Сегодня, в духе Гладстона, Вильсона, Стимсона и Рузвельта, объявлена новая эпоха прав человека, хотя глобализация, при всех ее добродетелях, оказывается силой, способствующей негативной урбанизации, экономическому неравенству, росту этнического сознания и в некоторых аспектах несущей ответственность за разжигание политического экстремизма и последующего пренебрежения правами человека.
Для защиты ценностей, сколь бы универсальны они не были в принципе, всегда будут требоваться мускулы и эгоизм. В 1990-х гг. Ватикан, Восточный православный патриархат и ООН отреагировали на военные преступления на Балканах неоднозначным осуждением, но с нерешительностью, так же как в свое время не менее высокие стороны реагировали на преступления нацизма. Ожидать, что люди и организации будут думать об интересах других больше, чем о собственных, – значит надеяться, что они откажутся от инстинкта самосохранения. Даже у благотворительных и прочих неправительственных организаций эгоизм стоит на первом месте: они лоббируют вмешательство в те регионы, где активно действуют сами, и значительно меньше внимания обращают на другие. Одна из причин, по которой журналисты уделяли так много внимания Боснии и сравнительно мало одновременно происходившим этническим злодеяниям в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, в том, что благотворительные организации – иногда основные источники информации для журналистов – были более активны на Балканах, чем на Кавказе. Поскольку мир полон жестокостей и даже наши собственные добрые намерения иногда бывают менее серьезными, чем кажутся, нравственные уроки холокоста – «символического злодеяния» – во многих регионах будет трудно применить.
Нашему процветанию способствует географическое положение, которое, возможно, в конечном счете и объясняет американский общечеловеческий альтруизм. Как отмечает Джон Адамс, «для американцев нет какого-то особого провидения; их природа ничем не отличается от других» [15]. Историк Джон Киган объясняет, что Британия и Америка могут отстаивать свободу только потому, что моря защищают их от «сухопутных врагов свободы». Милитаризм и прагматизм континентальной Европы, над которой американцы всегда чувствовали превосходство, – результат географического положения, а не характера. Соперничающие страны и империи существовали бок о бок на перенаселенном континенте. Европейские страны в случае ошибки в военных действиях никогда не могли укрыться за океаном. Таким образом, их внешняя политика не могла опираться на универсальную нравственность и они оставались хорошо вооруженными друг против друга до тех пор, пока после Второй мировой войны не установилась американская гегемония. Александр Гамильтон говорит, что, не будь Британия островом, ее военный истеблишмент был бы таким же властным, как в континентальной Европе, и Британия «со всей вероятностью» могла бы стать «жертвой абсолютной власти одного человека» [16].
Обширные океаны обеспечивают американцам защиту, необходимую для продвижения универсальных принципов. Но во все более тесном мире, в котором Ближний Восток и Черная Африка станут в военном смысле так же близки к нам, как Пруссия была близка к Османской Турции, пространство для ошибок будет продолжать сокращаться. Так вариант прагматизма в европейском стиле может постепенно захватить американское общество и политиков. Нравственность Вильсона привлекательна до тех пор, пока американцы чувствуют себя неуязвимыми. Желание общества прекратить гуманитарную миссию в Сомали в 1993 г. после незначительных потерь и слабая общественная поддержка воздушных бомбардировок в Косове в 1999 г. могут считаться предвестниками такой тенденции. Изоляционизм всегда был неотделим от американского идеализма, потому что, если мы не могли изменить мир, мы всегда могли уйти от него, как сделали после Первой мировой войны. Но, по мере того как технологии сокращают океанские расстояния, на смену паре «изоляционизм – идеализм» приходит активная вовлеченность и реализм. Благоразумие станет контролировать наши страсти, как никогда ранее.