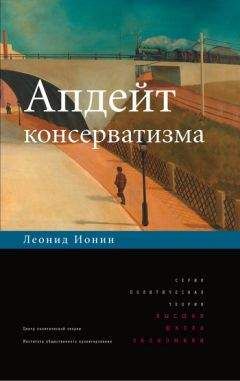Этот краткий исторический очерк позволяет сделать некоторые выводы применительно к представлениям о земле и территории как одном из важных (а в России, может быть, даже важнейших) элементов политической культуры. Приглядимся теперь к тому, что происходило с землей и территорией в России от революции 1917 г. вплоть до наших дней. К 1917 г. революционные партии выступали под разными лозунгами в отношении земли. Эсеры, например, считали необходимым социализацию земли, то есть изъятие земли из собственности помещиков, церкви, двора и передачу ее крестьянам. Эта программа была в определенной степени связана с потерпевшей крушение по причине смерти ее создателя либерально ориентированной аграрной политикой П. А. Столыпина, направленной на разложение общины и внедрение капиталистических отношений в сельское хозяйство. С другой стороны, программа большевиков требовала национализации земли, то есть практически изъятия земли из частной собственности, и передачи ее, независимо от того, кто ею пользуется, в единый государственный земельный фонд. Фактически это означало ликвидацию частной собственности на землю и использование земли как субстрата построения новых общественных отношений. Программа Столыпина (а в определенной степени и эсеров) и программы большевиков были программами равно антиконсервативной направленности — либерально-прогрессистской, с одной стороны, и социалистической — с другой.
Другим аспектом отношения к земле является, как сказано выше, отношение к земле (территории) как основе суверенитета. Советские вожди, начав с тотального разрушения связи земли и нации, парадоксальным образом вернулись к земле как основе суверенитета. Но это было не искреннее и живое, «органичное», коренящееся в традиции, а скорее макиавеллистское, манипуляторское отношение к земле, нации, суверенитету. С одной стороны, отчетливо осознавая связь земли и суверенитета, советская власть декларировала полную государственную собственность на землю. С другой стороны, она систематически разрывала все традиционные связи с землей: перекраивала административные карты, приписывала гигантские территории то к одной, то к другой республике, разрывая тем самым национальные идентификации, устраивала переселение народов, отрывая нации и этносы от традиционно занимаемых ими земель. Все частные суверенитеты должны были быть уничтожены или сохранялись лишь по видимости. Должен был остаться один-единственный суверенитет — суверенитет Советского государства, одна-единственная семья на всей территории страны — советский народ. Но эта территория, эта земля воспринималась, особенно Сталиным, действительно как тело власти. Ни одна «пядь» ее не была чужой или лишней.
Аналогичную политику французского Национального собрания после революции Эдмунд Берк называл «геометрической политикой». Собрание полагало, писал он, что в результате «геометрической» политики любые местные идеи будут отвергнуты и люди перестанут быть, как раньше, гасконцами, пикардийцами, бретонцами, но будут только французами, с одной страной, одним центром, одним собранием. На самом деле «… это приведет к тому, что население отдельных районов в очень скором времени утратит чувство принадлежности к стране» [53].
Как бы дело ни развивалось во Франции (а там Реставрация восстановила унитарное государство), в Советском Союзе формирование чувства принадлежности к стране с самого начала приняло двоякий характер. С одной стороны, казалась успешно реализуемой программа создания единой нации, точнее единого советского народа из десятков народов и народностей, обитавших на огромной территории страны. Тому были две причины. Первая — достаточно фиктивный характер советского федерализма. По сути дела, Советский Союз был унитарным государством, а составлявшие его союзные республики, хотя номинально представляли собой субъекты Федерации, фактически все управлялись из Москвы. Они обладали минимумом самостоятельности в решении важных вопросов, а их руководящие структуры выполняли в значительной мере функции передачи властных импульсов из центра населению самих этих республик. Вторая и очень важная причина состояла в том, что земля была изъята как из коммерческого оборота, так и из любого рода национальной, традиционно-семейной и любой другой партикулярной принадлежности и целиком передана в собственность государства, став субстратом формирования единого советского народа. Совершенно в социалистическом абстрактно-прогрессистском духе она была унифицирована и превращена в абстрактную сущность. Но, с другой стороны, номинальные субъекты, образовавшие Советский Союз, сохранили свои национальнокультурные идентификации и — что необычайно важно — свои национальные территории, даже в целом ряде случаев значительно их прирастив (Украина, Казахстан). Поэтому, когда в конце 1990-х годов государство начало рушиться, трещины побежали именно по границам республик, где, как оказалось, живут совершенно разные народы, а вовсе не единый советский народ. И у каждого из них есть своя земля, с которой они себя отождествляют. Таким образом, в отношении советской власти к земле проявлялись элементы как консервативного, так и либерально-демократического мировоззрения. И парадоксальным образом в ходе либерально-демократической революции победило консервативное отношение к земле. Все вновь образовавшиеся на территории бывшего Советского Союза государства, за исключением России, представляют собой унитарные государства и не склонны к геометрической политике, грозящей им распадом.
В России же отношение к земле и территории пережило за последние советские и постсоветские годы определенную эволюцию. Сначала так называемые демократические преобразования оказались направлены на ликвидацию любого проявления консерватизма: отношение к земле проходит новую стадию либерализации и рационализации, как в хозяйственном, так и в идейно-политическом отношении. Отделение республик всячески приветствуется, их попытки вступить в более тесные отношения с Россией (например, предложения создания Евразийского Союза) отвергаются на том основании, что России-де не нужны больше нахлебники. При этом, несмотря на стремление новых властей идентифицироваться не с Советским Союзом, а с Российской империей, происходит отрицание ее экспансионистской природы и бессовестное проматывание нажитого российскими поколениями культурного, идейного и территориального багажа. То же самое имеет место и внутри России — раздача суверенитетов субъектам Федерации.
Параллельно с этим происходит постепенное съеживание территорий, воспринимаемых как Россия, до территорий, имеющих очевидную хозяйственную функцию. Ценность национальной территории как таковой и ее связь с нацией и ее историей либералам непонятна. Неоднократно высказывается мнение о том, что фактически Россия есть европейская ее часть плюс узкая полоска земли вдоль Транссибирской магистрали, то есть территория страны отождествляется с ее экономической функцией. Было принято и одно время действовало (1993–1994 гг.) решение о вахтовом методе освоения Севера, в результате чего пустели северные города и разрушалась существующая с советских времен инфраструктура. Это было крайне опасное решение. Неумение ценить землю как таковую ослабляет государственный суверенитет. Впоследствии эти резкие проявления либерального пренебрежения ролью территорий в государственной и национальной жизни сгладились, на место неумеренного оптимизма в отношении близких и дальних друзей пришли более реалистические оценки, стала восприниматься связь суверенитета с землей. Но решающего изменения здесь не произошло. В своем отношении к постсоветским государствам и к немногим, но острым территориальным проблемам Россия остается политкорректным государством, молчащим о своих хворях и обращающимся с неравными ей как с равными. Россия вступила на зыбкую почву политкорректности, не осознавая, что самое ее существование как государства (Российская империя, а потом Советский Союз) изначально и сущностно обусловлено консервативным отношением к земле и территории. Россия ведет себя так, как будто она уже не империя, а какая-нибудь Московская демократическая республика, привольно раскинувшаяся в пределах Среднерусской возвышенности. Какие последствия политкорректная международная политика может иметь для страны, обсудим далее.
Глобализация — это апофеоз модернистского прогрессизма. Глобализация — весьма сложный и многоаспектный феномен. Мы можем определить ее как универсальное распространение однородных культурных образцов и создание единой глобальной системы экономики и социального управления, происходящие неизбежно за счет абстрагирования от национальных и вообще любых специфических традиций и особенностей. Абстрагирование от национальных и любых прочих партикулярных культурных образцов и моделей может происходить не только в случае экспансии либерально-капиталистической экономики и культуры, но и в условиях экспансии социалистической модели общественного устройства. То есть в принципе возможна и социалистическая, она же коммунистическая глобализация. Она не только возможна теоретически, но и, как известно, фактически имела место в течение более чем полувека с 1920-х по 1980-е годы. Она тоже состояла в стремлении к универсальному распространению однородных культурных образцов и созданию единой социальной и экономической системы за счет подавления (не обязательно административного, часто мягкого, культурного) партикулярных традиций и особенностей. Другими словами, социализм оказывается одним и тем же и в России, и в Монголии, и в Латинской Америке, и в Австралии, если бы он там появился. Везде будет руководящая социалистическая или коммунистическая, или с иным названием партия, Центральный комитет которой будет принимать решения по всем важным вопросам жизни страны; везде будут экспроприированы богачи-кровососы; везде произойдет национализация крупных (а кое-где и всех) компаний и предприятий; везде будут унифицированы культурная жизнь и потребительский стиль. Национальное и местное будет, конечно, поощряться и даже, как это было в СССР, насаждаться искусственно, но с одним непременным условием: все национальное должно быть «национальным по форме, социалистическим по содержанию». Национализма советские идеологи боялись пуще всех других зол.