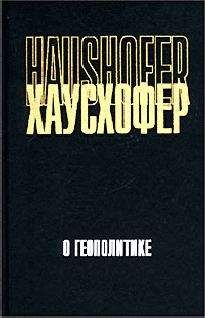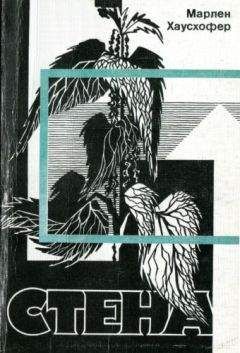пользуются преимущественно поборники народов гор, побывавшие в горных ландшафтах, долинах, высоких плато и на их окраинах с обрывистыми склонами и ставшие благодаря опыту крупными, зрелыми исследователями; вторым – больше те, кто обучен в основном чувству границы на морском жизненном опыте; в Германии – это Пенк, Фольц, Заппер, Берманн, Тукерманн и др., в Британии – Керзон, Фосетт, Холдич, Лайд, Перси М. Роксби, Земп-ле и др., в Америке – Фрезер и Мэхен.
Редким является, собственно говоря, использование одним и тем же исследователем обоих методов рассмотрения, как это характерно для универсального метода Ратцеля, который, с одной стороны, признает антагонизм между океанской и континентальной [жизненными формами] самым крупным в судьбе народов, а с другой – воздает должное своеобразию гор и их укромнейших отдельных переходов – метода, представленного в его непревзойденном сочинении «Alpen inmitten der geschichtlichen Bewegungen» («Альпы во время исторических движений»). Кроме того, воспитание с учетом ландшафта, народных и даже племенных различий, одним словом ландшафтного происхождения и шлифовки, как правило, в жизненном деле пограничного воспитания добивается прочного признания.
В целом у народов переход от эмпирики, от пограничного инстинкта к осознанному научному наблюдению совершается поздно. Еще реже и позднее – почти всегда для соответствующей жизненной формы слишком поздно – следует второй шаг от осмысленного научного наблюдения к планомерному воспитанию, и это тем более вызывает удивление ввиду раннего, а то и внезапного появления отдельных наблюдений. Даже созерцание удивительных проявлений осознанного восприятия границы, ее сознательной защиты, например в древних культурных империях, как в Римской, Китайской, Индийской, поверженных молодыми народами, скорее пугает их; они робко взирают на стены и пограничные оборонительные сооружения на чужбине (в которых видят подавление своего чувства силы, своей широкой пространственности), так что это зрелище побуждает их учиться, как надо возводить и защищать границы. Большие различия, связанные с происхождением, выступают при этом и внутри нации, и тем резче и неожиданнее рядом, чем гениальнее народы, вожди.
К наиболее знаменитым, исторически достаточно подтвержденным примерами нашего народа наряду с записками Цезаря о гельветах и алеманнах [322] – одним из самых ранних памятников, блестяще передавших чувство границы у германских племен, принадлежит ставшее известным благодаря истории готов Иордана [323] требование короля гепидов [324] – Фастида к остготам: они должны уступить ему земли, потому что гепиды «благодаря крутым горам и густым лесам чувствовали себя слишком стесненными», – требование о расширении границы, которое затем ведет к сражению на реке Олт. Это скромный сюжет из целой трагедии взлома границы на Дунае, описанной Иоганном Бюлером в богатой источниками работе «Die Germanen in der Volkerwanderung» («Германцы в переселении народов») [325].
Среди этих источников один из поразительных – «Vita Severini» («Жизнь святого Северина») – апостола Норика [326], содержащий одно из немногих достоверных наблюдений за удивительным пограничным инстинктом баваров в отношении области их обитания в районе баварского и южнобогемского леса, вокруг которого они кружились словно вокруг своей оси в ходе колонизации, не упуская из виду эту стену леса, обширную лесную крепость Богемии, – место их изначального расселения. Разумеется, это пример привязанности баваров к родине уже в ранние времена в противоположность столь многим другим германским племенам – андалузцам, ломбардам и прочим, которые, не имея границ и опоры, исчезли вплоть до имен в чужой народности. Борьба романского и германского пограничных образований, развивавшегося при этом чувства границы, естественно, одна из поучительнейших для Внутренней Европы сокровищниц, добытая трудами Юнга и Бидерманна [327] и вновь прокомментированная Р. Борхардтом [328] на удачно выбранном, одном-единственном примере отношения германцев и романских народов к «вилле», т. е. на контрасте романского и германского земельных владений.
Обобщая отдельные проявления возможностей группового воспитания чувства границы, а у нас их предостаточно, мы сразу же обнаруживаем огромнейшую опасность ведущего к бесплодности воспитания в одном направлении, одной слишком резкой дефиниции, одностороннего юридически и исторически ретроспективного видения границы, любой казуистики, любого поиска линии во что бы то ни стало, как противящейся законам жизни на Земле и поэтому обреченной на провалы точки зрения биологического вида. Об этом следует предупредить особо, так как она – именно из излишней справедливости, педантичного правдолюбия, а также явной несговорчивости – как раз в Центральной Европе соответствует определенным предпочтениям в гуманитарных науках и побуждает их приверженцев, склонных к чистому анализу, вовсе не заниматься созиданием.
Однако в практике воспитания чувства границы необходимо видеть ее предполья, знать переходы и принимать их в расчет, а также состояние атмосферы, ветра, обтекающего их пределы, их ясные очертания. Это привносит в политико-географическую картину противостояния жизненных форм государств и народов, культурных кругов и хозяйственных культур, отграниченных друг от друга, пограничную фразеологию, некую форму политического «лицемерия».
Характерно, что островные народы с их более прочувствованной атмосферой намного легче, чем континентальные народы, принимают в расчет данный факт, острее противопоставляют краски, гораздо резче видят побережье против побережья. Достаточно вспомнить картины Тернера, Уистлера [329], а также японских или раннекитайских художников, изображающих прибрежные ландшафты!
«Широкая» русская натура, у которой иные задатки, сохранила подвижный образ восприятия границы, возможно, благодаря атмосфере северного леса; этот образ – продукт скорее подзольной зоны [330], чем черноземной на Украине и в просторах степи со свойственным им смешанным душевным настроем.
Следовательно, сравнительные наблюдения за границей и здесь необходимы в переносном смысле! Они побуждают к особой тонкости, где речь идет о культурно-географическом чувстве границы. Здесь существуют в особенности религиозно-географические и церковно-организационные разграничения, которые обнаруживают тонкий инстинкт пограничных исследователей, чья многогранность может побудить к обобщениям. Исследования Вюста о трансформации буддизма в ламаизм [331] при переходе большой естественной границы [332] – Гималаев, различное поведение церкви в отношении образования церковных приходов в горах и на равнине служат указанием на то, как следует проводить такие исследования. Следует учитывать и наслоения культур, на что обращает внимание Понтен в своих художественно-географических изысканиях [333].
Где, к примеру, можно разграничить замедленный ритм образа действий, характерный для особенно устойчивых структур горных стран (как показывают новые швейцарские исследования в области искусства) по отношению к пространствам с нормальным ритмом развития? Где эти нормальные пространства снова находят границы с пространствами, у которых опережающий в разрезе времени темп культуры, как собственно долины Рейна и Роны и части средиземноморского побережья?
Культурно-географические симптомы часто выдают куда более ощутимо, чем политические, грядущие политические переносы границ и переоценки, и я пытался это проследить в «Geopolitik des Paziёschen Ozeans» для тихоокеанского региона.
В свете сказанного политическое чувство границы (чувство такта