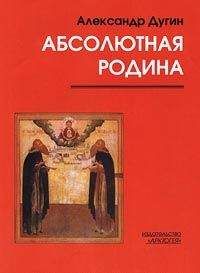Иерархия эсхатологии основана на успехе смерти, на способности существ ускользать в конце цикла от фатального возобновления, причем не только возобновления подобного и однородного, а от возобновления вообще. Поэтому, с эсхатологической точки зрения, метафизический уровень вообще не играет большой роли; важно лишь то, что он имеет предел, которого можно достичь и, слившись с ним, застыв на нем, реализовать "свершение всех свершений", свободное ото всех метафизических ограничений.
В этой связи приобретает особенную ценность конец всякого, даже самого частного цикла, такого, как конец земного человечества и так вплоть до смерти отдельного человека. Поэтому конец человеческой цивилизации и смерть человека выделялись в особые традиционные учения — в частные эсхатологии, в учение о конце человечества и в искусство смерти, ars morendi.
Конец человеческой истории, манвантары, считался в Традиции наиболее важным эсхатологическим событием, уступающим по значимости лишь концу кальпы, т. е. всего миропорядка. Конец манвантары — это конец Ману, т. е. исторического субъекта, представляющего собой сумму индивидуальных человеческих субъектов. Смерть Ману — это смерть земного человека в его архетипе, это архетип человеческой смерти. Поэтому всякий человек, умирая, причащается к этому универсальному архетипу, к концу времен, вступает в свой индивидуальный Страшный Суд, тождественный Страшному Суду конца манвантары, в согласии с эсхатологической логикой единства символизируемого и символизирующего. И более того, следуя этой логике, конец манвантары, т. е. смерть Ману, строго тождественен концу кальпы, т. е. смерти Вайшванары или Праджапати. А в общеметафизическом комплексе между смертью Праджапати и погашением чистого бытия, с эсхатологической точки зрения, также не существует никакой разницы. Именно это строгое тождество "свершения всех свершений" на любых метафизических уровнях лежит в основе искусства смерти — высшего из традиционных, инициатических искусств, практика которого дает возможность выйти за все причинно-следственные цепи метафизики, минуя промежуточные инстанции, реализовать чистую трансцендентность.
Смерть конкретного человека на практике теснее всего связана именно с концом человечества, к которому этот человек принадлежит, т. к. непрерывность родовой фамильной цепи (родовое имя — "нама-гаутрика") реально нарушается только в конце манвантары, и в этот момент человеческая личная душа (личное имя — "нама-наумика") действительно сталкивается с пределом земного человеческого уровня, тогда как простая индивидуальная смерть человека в нормальном случае не отделяет его окончательно от рода, и определенная часть его души продолжает жить в потомках и родственниках. Лишь в конце манвантары смерть на земном уровне личной и родовой души человека совпадают, что открывает перед ними действительно полную и всеобщую перспективу смерти. Именно поэтому в тех традициях, где эсхатологические аспекты наиболее развиты, искусство смерти всегда соприкасается с постоянным акцентированием конца манвантары, с концентрацией инициатического внимания именно на этом историческом событии. Личная смерть, смерть, касающаяся нама-наумика, "именного имени", представляет собой субъектную сторону эсхатологии, а смерть человечества как универсального "семейного имени", нама-гаутрика, — объектную сторону. Концентрация внимания на конце истории позволяет практикующему искусство смерти носителю эсхатологического гнозиса яснее понять масштабы духовной проблематики, предвосхитить универсальную значимость своего инициатического пути. Индивидуальная смерть как эсхатологический минимум, данный человеческому существу, имеет своим наиболее непосредственным дополнением конец истории, и именно эти два конца замещают собой все остальные эсхатологические аспекты метафизики, суммируют их для человека и являются в то же время достаточными для реализации наиболее трансцендентных аспектов "свершения всех свершений".
Эсхатологический гнозис структурируется вокруг фигуры спасительного посланника, в котором воплощается земное человеческое представление о конце бытия и о "свершении всех свершений". Видимый в исторической перспективе, этот спасительный посланник приобретает черты кого-то, кто прийдет к человечеству в конце времен и принесет с собой истинный духовный конец, осуществит то, к чему стремятся имманентные тенденции цикла, не могущие, однако, поставить точку без вмешательства сверху.
В христианстве это Исус Христос, Сын Божий (особенно во Втором Пришествии).
В исламе в конце времен предполагается приход махди, отождествляемого в шиизме с последним скрытым до поры имамом, "имамом времени". В буддизме эсхатологическим спасителем выступает Майтрейя, Будда грядущих времен, в зароастризме — Саошьянт, в индуизме — Калки, десятый «аватара» (появление, воплощение верховного принципа — Вишну).
Эти эсхатологические персонажи являются священными ориентирами эсхатологического гнозиса в его историческом проявлении, и поэтому они стоят в центре этого гнозиса, вплоть до того, что некоторые традиции носят имя самого эсхатологического спасителя — как в случае христианства.
В персоне спасительного посланника, являющегося в конце мира, концентрируется мистерия двух сторон человеческой смерти.
Посланник стоит между двумя Ману, между двумя манвантарами (циклами Ману), как великая апофатическая теофания трансцендентного, и поэтому к нему должен быть обращен дух того, кто идет путем эсхатологического гнозиса.
Эсхатологические фигуры разных традиций могут истолковаться одновременно в двух метафизических перспективах, о которых мы говорили выше. Один и тот же персонаж теоретически может выступать в двух смыслах — как выразитель эсхатологического гнозиса или лишь эсхатологического факта, как полагающий окончательный предел цикла или как возобновляющий одновременно новый цикл. Эти два аспекта могут вкладываться в одну и ту же эсхатологическую персону, и тогда все зависит от ее интерпретации в рамках конкретной традиции. Но вместе с тем существует иерархия и между религиями, и в этом случае эсхатологический дуализм создает межрелигиозное напряжение — финальная манифестация принципа в одной религии, взятая позитивно, выступает к контексте другой религии, как нечто прямо противоположное. Ярче всего такая межконфессиональная напряженность применительно к эсхатологии проявляется в радикальном противопоставлении эсхатологических перспектив православия и иудаизма, в одном случае, и индуизма и буддизма, в другом.[75]
Важно подчеркнуть здесь и особую значимость той манвантары, в которой, по мнению индусов, живет современное человечество. Эта манвантара — седьмая, последняя в цепи манвантар удаления, за которой должна последовать цепь из семи манвантар возврата. Естественно, что эсхатологический смысл этой седьмой манвантары должен быть особенным в пределах нашей кальпы, т. к. в этой точке осуществляется изменение ориентации всего потока реальности нашего космоса. Поэтому конец седьмой манвантары рассматривается как совершенно уникальный со всех точек зрения, а спасительный посланник, стоящий между седьмой и восьмой манвантарами, является главным в эсхатологической иерархии. Шесть предыдущих посланников, приходивших в конце прошлых манвантар, были его «пророками», а семь последующих будут его «апостолами». Сам же он «пребывает» именно на границе седьмого и восьмого человеческого цикла, на имманентном уровне циклического развития, представляя собой "священное зеркало", дойдя до которого, поток бытия поворачивает вспять.
Поэтому для индусов Калки, десятый аватара, "воин с мечом на белом коне", является центром истории, результатом всех прошлых манвантар и сущностью всех будущих, наиболее ценной вещью всего бытия.
Точно такое же представление характерно и для исмаилитских гностиков,[76] считающих, что седьмой «воскреситель», «кайим», в отличии от шести предыдущих «воскресителей», является главным и наиболее ценным, т. к. только ему окончательно удастся победить иблиса-дьявола в форме даджала (антихриста) и навсегда покончить с той великой двойственностью, которая присуща даже самым высшим регионам метафизики, но которая разоблачается и отражается только на ее предельной периферии, на границе низшего плотного космоса. Одно из имен седьмого кайима, «воскресителя» — "совершенный ребенок",[77] т. к. именно он является истинной тайной целью всей метафизики, видимой, естественно, с эсхатологических позиций. В этом индуистская доктрина Калки полностью совпадает с исмаилитским учением о Кайиме.
Эсхатологический гнозис, будучи совершенно универсальным, тем не менее, имеет свои наиболее центральные точки приложения, и такой точкой является конец кали-юги седьмой манвантары — т. е. символический момент максимального удаления космического потока от своего полюса, центра. Здесь, в окружении разложившегося, хаотизированного и демонизированного мира, на пороге внутрибытийной тьмы кромешной, имманентного предела онтологии, происходит великая мистерия "свершения всех свершений", самая важная и самая фундаментальная для всех уровней метафизики, т. к. только она сможет ответить на эсхатологический вопрос "зачем?", поставленный великой печалью чистого бытия.