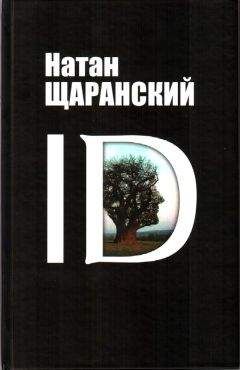Однако потеря Александровым контроля над историками не осталась незамеченной. ЦК предпринял шаги по созыву собственного совещания историков в начале лета 1944 года [498]. Как заявил Маленков в своей вступительной речи, «за последнее время в ЦК обращаются историки СССР с различными вопросами, из которых видно, что у ряда наших историков нет ясности по некоторым принципиальным вопросам отечественной истории, а по ряду вопросов имеются существенные разногласия. ЦК. ВКП (б) решил собрать настоящее совещание историков с тем, чтобы посоветоваться по вопросам, которые волнуют теперь историков». Маленков призвал присутствующих специалистов особенно тщательно рассмотреть порядка пятнадцати вопросов, касающихся тезиса «жандарм Европы», характера царского империализма и колониальной политики, применимости теории «меньшего зла», неослабевающего влияния школы Покровского и роли выдающихся личностей в истории (Иван Грозный, Петр I, Ушаков, Нахимов и др.). Кроме того, необходимо было обсудить проблему политического сознания крестьянских бунтовщиков (Болотников, Пугачев и др.), а также то, насколько благотворно сказалось самодержавие Романовых на русском народе в исторической перспективе [499]. Несмотря на столь амбициозную программу, итоги совещания оказались неубедительными. Хотя Щербаков постоянно председательствовал на заседаниях, а Маленков и А. А. Андреев периодически присутствовали, их замечания были краткими и малозапоминающимися. Безуспешности мероприятия способствовали и ожесточенные споры среди самих историков не только во время заседаний, но и в кулуарах, а также в письменных обращениях к Щербакову и Сталину [500]. После того как совещание, в рамках которого состоялось пять заседаний, закрылось в начале июля, его участники посчитали, что ЦК в скором времени выпустит заявление о положении дел на историческом фронте [501].
Однако панацея так и не появилась. Александрову поручили написать от имени Политбюро постановление, которое положило бы конец идеологическому расколу. Он создал документ, по сути повторяющий предвзятые наблюдения, сделанные им в начале весны Щербаков отверг его вариант постановления [502]. Затем ответственным был назначен Жданов, который до недавнего времени находился в осаженном Ленинграде и не присутствовал ни на одном заседании [503]. В течение следующих месяцев Жданов писал и переписывал различные положения, постоянно консультируясь со Сталиным, изучая стенограмму совещания и письменные рекомендации Александрова и Панкратовой. Сохранив постановку рассматриваемой проблемы в том же преувеличенном виде, в котором она была сформулирована Агитпропом: соперничество двух немарксистских ересей — «буржуазно-монархической» школы Милюкова (Ефимов, Яковлев, Тарле) и «социологической» школы Покровского (Панкратова с коллегами), — Жданов оказался более критично настроен по отношению к первой [504]. В особенности он возражал против объединения русского прошлого и советского настоящего, против стирания различий между ними [505]. Тем не менее, работа над документом застопорилась после нескольких редакций, и официальное заявление, фиксирующее партийную идеологию, так и не увидело свет. Непонятным образом выводы столь крупного совещания свелись к небольшому постановлению, произнесенной речи и публикации нескольких рецензий в следующем году [506].
Неспособность партийного руководства выпустить официальное постановление обернулась в 1944-1945 годы тупиковой для историков ситуацией и в последующие годы повлекла за собой нескончаемые обсуждения [507]. Возможно, Панкратова заставила своих покровителей отвернуться от нее в начале осени, совершив большую ошибку [508]. Сталин, быть может, хотел защитить своего подопечного Тарле или же полностью сосредоточился на военных проблемах [509]. Существует еще одна правдоподобная причина: благодаря успехам Красной Армии в изгнании немецких войск из центральных районов СССР летом 1944 года острая необходимость в мобилизации – в продвижении нерусских боевых традиций – постепенно стала отходить на второй план [510]. Возможно, сама история нерусских народов (а вместе с ней и «История Казахской ССР») просто морально устарела.
Косвенные доказательства скорее подтверждают последнее предположение: партийная верхушка потеряла интерес к нерусской истории, стоило Красной Армии перейти польскую границу в июле 1944 года. Сами за себя говорят второстепенные постановления ЦК, выпущенные в 1944-1945 годы. В них была подвергнута критике военная пропаганда в Казахстане, Татарстане и Башкирии [511]. В выражениях, схожих с яковлевской критикой «Истории Казахской ССР» в этих постановлениях осуждалась научная, художественная и литературная деятельность, представлявшая жизнь этих регионов при татаро-монгольском иге как «золотой век», и восхвалявшая непокорность русским царям. Подобные постановления предполагают следующее: партийное руководство решило, что пришло время положить конец использованию в республиках исторических лозунгов, продвигающих нерусских героев в ущерб русскому народу. Вскоре Александров выступил против издания «Идегея», средневекового татарского эпоса, заявив, что в нем выражены «чуждые татарскому народу националистические идеи». «Крупнейший феодал Золотой Орды, враг русского народа, изображается как национальный герой». Сравнивая Идегея с печально известными ханами Мамаем и Тохтамышем, Александров возмущался: этот татарский «герои» «стремился восстановить былое могущество Золотой Орды набегами на русскую землю». В заключении руководитель Агитпропа называл «Идегея» непродуктивным вкладом в мобилизацию всех сил на оборону страны; его вообще не следовало публиковать [512]. Большое число других республиканских и областных парторганизаций также подверглись критике за подобные издания в течение первых послевоенных лет.
Война, таким образом, является ключом к пониманию заката пропаганды истории нерусских народов. Если в 1941-1943 годы подобные темы еще развивались и поддерживались определенными кругами, то во второй половине 1944 года от них не оставили камня на камне за разжигание нерусского национализма и игнорирование векового симбиоза, якобы объединявшего нерусские народы с их русскими собратьями. Другими словами, как только крайняя необходимость 1941-1943 годов стала ослабевать, партийная идеология вернулась к бескомпромиссной версии оформившейся после 1937 года линии: этническое превосходство русского народа в советском обществе. Национал-большевистская программа получила одобрение Сталина практически сразу же после войны. Подтверждением тому можно считать его печально известный тост за русский народ на приеме для командования Красной Армии в Кремле:
«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего, русского народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики «ура»).
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение» [513].
Откровенно противопоставляя лояльность русских другим народам, населяющих СССР, Сталин своим тостом в мае 1945 года официально одобрил восстановление этнической иерархии. Многие увидели в нем требование к пропагандистам сосредоточиться исключительно на русском народе и его историческом величии в течение первых послевоенных лет.
Обусловленное временем и тяжелым положением, ослабление военной пропаганды истории нерусских народов работало на распространение руссоцентризма в советском обществе в 1941-1945 годы – процесс, временами напоминавший порочный круг. Официальные заявления 1941-1942 годов, в которых русский народ представал главной боевой силой СССР и первым среди равных, способствовали преобладанию русских тем в пропагандистских материалах и печати. Со временем такая риторика полностью заслонила обсуждения нерусского героизма, позволяя господствующей идее о страшной цене, которую заплатил именно русский народ за победу, развиться на массовом уровне [514]. Похожие настроения в кругу партийной верхушки усилили ставку на руссоцентричную пропаганду [515], ускоряя инициативы, которые в свою очередь еще больше обострили ситуацию в обществе. Внимание прессы к нерусскому героизму, возможно, замедлило бы расширение чувства русской исключительности [516], однако полное игнорирование этой темы в конце 1930 годов привело к тому, что в 1941-1942 годы, когда представилась возможность рассказать всему СССР о славных боевых традициях нерусских народов, соответствующих материалов оказалось подготовлено мало. Некоторые серьезные исследования, например «История Казахской ССР» и «Очерки по истории Башкирии», увидели свет в 1943 году, но к тому времени было уже поздно предпринимать какие-то шаги. Более того, инерция руссоцентризма военного времени и отходящая на задний план необходимость мобилизовать все силы привели к тому, что к 1944 году партийное руководство стало расценивать подобные материалы как не только несвоевременные, но и вводящие в заблуждение. В результате, военное время, несмотря на согласованную работу нескольких высокопоставленных идеологов и придворных историков, например Панкратовой, обеспечило официальной линии, принятой после 1937 года, только уже в более руссоцентричной и этатистской форме, нежели перед началом войны.