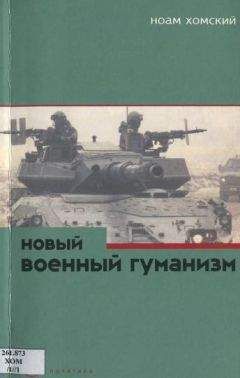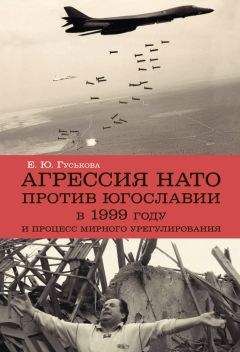В каком-то смысле расширение диапазона интервенции всегда было законным и даже поощряемым, но трудно осуществимым именно в период холодной войны, поскольку «открыто неповинующиеся, лентяи и раскольники» — те, кто сопротивляется миссии, — в то время могли полагаться на поддержку коммунистических сил, видящих свою цель в мятежах и свержении действующей власти, а в конечном счете и в завоевании мира19. С окончанием холодной войны «нарушители порядка» были уже не в силах препятствовать добрым деяниям цивилизованных государств, и «новый гуманизм» отныне мог процветать под мудрым и справедливым лидерством последних.
Но есть и противоположная точка зрения, согласно которой реализация «нового интернационализма» есть не что иное, как проигрывание старой пластинки. Это модернизированная версия традиционной практики, которой некие силы противились в рамках биполярной системы мира, оставлявшей им определенную возможность для неприсоединения, — данное понятие полностью теряет смысл с исчезновением одного из полюсов20. Советский Союз, а также до некоторой степени Китай, могли ограничивать действия западных государств в рамках традиционных сфер собственного влияния, и не только при помощи военных средств устрашения, но и своей, хоть и редкой, подчас оппортунистической готовностью оказывать поддержку тем, кто стал мишенью для западной агрессии (на практике — для США, по причине их очевидного превосходства сил). С исчезновением советской военной угрозы победители в холодной войне стали более свободны в выражении своей истинной воли под маской добрых намерений и преследовании интересов, хорошо известная арена которых лежит далеко за пределами обители цивилизованности.
Самозваными носителями цивилизованности оказываются богатые и могущественные наследники колониальных и неоколониальных систем всемирного господства: это Север, «первый мир». Необузданные раскольники, бросающие им вызов, находятся на другом полюсе: это Юг, «третий мир», «развивающиеся» или «слаборазвитые страны», или «страны переходной экономики» — любое из этих названий несет на себе тяжкое бремя идеологии. Данное разделение не является резким и четким; в сфере человеческих отношений невозможно провести такие границы. Но определенные тенденции здесь нельзя не заметить, а они, в свою очередь, дают ряд оснований для того, чтобы по-разному интерпретировать перспективы «складывающихся норм оправданного вмешательства».
Нелегко будет разрешить этот конфликт интерпретаций, если объявить, что свидетельства истории здесь неуместны, и смотреть на современную ситуацию исключительно через фильтры, поставленные цивилизованными государствами, пропускающие только злодеяния официальных врагов, блокирущие нежелательные образы: в качестве самого очевидного и современного примера можно привести тот факт, что через них беспрепятственно и даже преувеличенно проходят те жестокости, которые относятся на счет Белграда, но отнюдь не те, которые восходят к Анкаре-Вашингтону. До тех пор, пока существуют подобные препоны в исследовании, нам будет казаться более предпочтительней та интерпретация, которая, по крайней мере, способна выдержать проверку фактами.
Общие вопросы мы оставим под конец (на главы 6 и 7), хотя в рассмотрении современных гуманитарных кризисов — косовских албанцев, турецких курдов и других — им принадлежит отнюдь не последняя роль. Если мы хотим хоть что-то понять в этом мире, то в таких конкретных случаях нам следует задаваться вопросом о том, почему решения о силовом вмешательстве так или иначе принимаются государствами, которые вершат свой суд и проводят свою волю только потому, что это позволяет им их собственная мощь. С самого начала возникают вопросы и в связи с недавней реанимацией тезиса о том, что цивилизованные государства должны использовать силу, «если они убеждены в ее справедливости», — здесь очень подходит термин «реанимация», так как первоисточники этого тезиса характерны и хорошо известны. В 1993 году, на конференции Американской Академии по формирующимся нормам один из самых видных специалистов в области академических исследований международных отношений Эрнест Хаас поднял простой и обоснованный вопрос, на который теперь уже есть ясный и поучительный ответ. Упомянув, что НАТО в тот период осуществляла свою интервенцию в Ирак и Боснию с целью защиты курдов и мусульман, он спросил: «Займет ли НАТО такую же интервенционистскую позицию в случае, если Турция станет жестко реагировать на требования своих курдских мятежников?». Этот вопрос, безусловно, является проверкой для «нового гуманизма»: чем он руководствуется — интересами силы и власти или заботами гуманитарного толка? Действительно ли здесь прибегают к силе «во имя принципов и ценностей», как заявлено? Или мы являемся свидетелями чего-то более грубого и знакомого?
Это хорошая проверка, и ее результат не заставил себя ждать. Как Хаас и сформулировал в своем вопросе, Турция стала жестче реагировать на курдское население юго-востока страны, постоянно отклоняя предложения о мирном урегулировании конфликта, которое позволило бы курдам обрести культурные и языковые права. Эта политика очень быстро переросла в крайние проявления этнических чисток и государственного террора. НАТО заняла совершенно определенную «интервенционистскую позицию», особенно ее лидер, который решительно вмешался во внутренние дела страны с тем, чтобы расширить масштабы жестокостей. Идеологические институты приспособились к этим обстоятельствам в только что продемонстрированной нами манере, следуя все тем же хорошо знакомым путем.
Нам станет понятней и суть более общих проблем, если мы, например, сравним данную «интервенционистскую позицию» с той, что НАТО и США заняли по отношению к кризису в Косове, — в моральном плане он меньше, и не столько вследствие своих физических масштабов (основное и драматическое значение здесь имеет то, что за этим последовало решение бомбить ФРЮ), сколько потому, что Косово находится вне границ и юрисдикции НАТО, вне сферы ее полномочий и институтов, в отличие от Турции, непосредственно под них подпадающей. Два эти случая резко различаются своими масштабами, однако Сербия является одним из тех неукротимых раскольников, которые стоят костью в горле у институтов управляемой США мировой системы, в то время как Турция — преданный сателлит, в существенной мере способствующий осуществлению этого глобального проекта. И вновь несложно понять, какие факторы здесь движут политикой, и, похоже, пресловутое деление мира по принципу «Север-Юг» в решении больших проблем и их интерпретаций здесь также нашло себе место.
Все основные вопросы, встающие в связи с этим, не разрешаются одним-единственным примером, да и сам такой пример требует тщательного исследования и разработки. Однако некоторые естественные выводы здесь напрашиваются сами собой. Если мы рассмотрим ситуацию ближе, я думаю, мы получим те же самые выводы, только они станут звучнее и четче. Мы убедимся и в том, что они подкрепляются широким рядом соображений, выходящих далеко за пределы военной интервенции и включающих международные финансовые приготовления, торговые договоры, контроль за технологиями и материальными и человеческими ресурсами и целый ряд других средств, благодаря которым сила становится концентрированной и организованной и прилагается к институциональным системам подавления и контроля.
Таков род вопросов, которые должны составлять ближайшую подноготную нашего рассмотрения так называемых «не самых важных мест», с точки зрения элит, а также нашего стремления понять, что и почему здесь произошло, и самое главное — почему мировые державы делают тот выбор, который они делают, и что с этим их выбором делать нам.
«Новый гуманизм» обрел наиболее отчетливое выражение в доктрине Клинтона, вкратце изложенной советником по национальной безопасности Энтони Лейком, ведущим интеллектуалом администрации США: «На протяжении холодной войны мы сдерживали глобальные силы, угрожающие рыночным демократиям», — говорит он, а теперь мы можем перейти к «консолидации победоносной демократии и открытых рыночных обществ». Комментаторы средств массовой информации уже признали, что «с окончанием холодной войны … интервенционистская позиция была преодолена», но остается вопрос, на что будут ориентированы дальнейшие меры — на реализм баланса сил в духе Буша или на «неовильсоновскую» точку зрения Клинтона-Лейка, согласно которой Соединенные Штаты пользуются своей монополией силы, чтобы вмешиваться в дела других стран с целью содействия там развитию демократии21.
Несколько лет клинтоновского «неовильсонизма» убедили обозревателей в том, что американская внешняя политика вступила в «благородную фазу», приобрела «ореол святости», хотя раздаются и более трезвые голоса, предупреждающие о том, что, «позволив идеализму почти безраздельно определять нашу внешнюю политику», мы можем упустить из виду наши собственные интересы, обслуживая чужие. В основном, именно между этими двумя полюсами и протекают сегодня все серьезные дискуссии22.