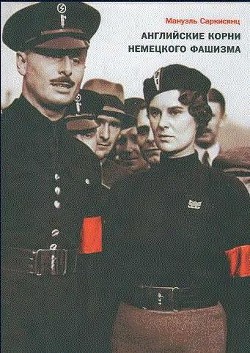мере, чем в Британии) принуждать массы к повиновению, но еще и муштровать их низших руководителей так, чтобы они «думали кровью».
Роберт Сесил, британский историк немецкой версии мифа о расе господ, дал точное определение этой реалии национал-социализма – умолчав, однако, о том, насколько сильное влияние на немцев оказал пример британской расы господ: «Большинство национал-социалистов испытывало ужас перед интеллектуальной деятельностью»; «Не следует изучать что-либо только ради самого предмета изучения» [708]. На самом деле подобный мещанский антиинтеллектуализм имел в Англии (в том числе и по британским оценкам) гораздо более древнюю традицию, чем в Германии. Немецкое ницшеанство у себя на родине не оказало столь длительного воздействия, как английский утилитаризм в Британии – где уже в течение двух веков считалось неприличным (и считается по сей день) называть себя интеллектуалом. Примат мышц над духом – несмотря на бюргерское понятие о воле как о средстве избежать «заражения» «бледностью от мыслей», и несмотря на идеи Ницше и лозунги о «духе как противнике души» – стал установкой немецких «элит» намного позже, чем в Англии. К тому же в английской среде эта идея укоренилась несравненно глубже, чем в немецкой. В Германии ницшеанская враждебность к образованию в течение нескольких поколений оставалась чем-то нетипичным и маргинальным, тогда как англичане непрестанно на практике демонстрировали свое неприятие интеллектуализма. Интересно, что в английском языке не существовало и не существует слова «образование», которое подразумевало бы формирование человека, личности с помощью интеллектуальной и эстетической культуры. В немецком же понятию «образование» соответствовало слово «Bildung», которое было вытеснено из обиходного языка только в Третьем рейхе. (Тем более в Англии не существовало понятия об «образованном классе» как о социологической категории.)
(В этой ситуации ничего не меняет популярная острота Маркузе: «Третий рейх не убил немецкий идеализм, а только похоронил его» [709]. В действительности немецкий идеализм совершил самоубийство.)
Интеллектуалы-критики находились в Англии на положении маргиналов уже более чем за век до того, как в Германии утвердился тоталитаризм «здорового национального чувства». Именно в устах англосакса утверждение: «в Германии давно существует глубоко укоренившийся и популярный антиинтеллектуализм» [710] – говорит о самодовольном невежестве его автора. Как раз в «образцовой» Англии такие мыслители, как Мэтью Арнольд и Джон Стюарт Милль, ссылались на Германию Гумбольдтов как на противоположность своей родине, где господствовала мещанская бездуховность. А в гитлеровской Германии молодым немцам внушали, что они должны брать пример с Англии [711].
Точно так же, как, например, Шопенгауэр отвергал «пресную» нормальность, так и нацистские «фёлькише чувство и воля» (т. е. экстремизм мелкого буржуа) не могли терпеть никакую «чрезмерно развитую индивидуальность». Ведь ее героическая творческая гениальность несовместима с бюргерством – с мещанством, которое с величайшим напором и бесцеремонностью пробивает себе дорогу в «реальной жизни». А «гениальным бюргером» слыл именно Гитлер [712].
Примат нормального над гуманным
Как английский, так и немецкий вариант филистерства неумолимо враждебны по отношению к вечной борьбе избранного меньшинства за человеческое достоинство и интеллектуальную свободу.
Мэтью Арнольд
Для антидуховного «филистерства у нас в английском языке нет термина… возможно, потому, что сам этот феномен у нас в большом избытке. Из всех народов именно английский стал самым недоступным для идей, самым нетерпимым по отношению к ним… Поскольку англичане прекрасно обходятся без идей, они и презирают тех, кто поднимает шум вокруг этого предмета», – отмечал Мэтью Арнольд еще в 1865 г. [713] Подобная критика филистерства в устах англичанина – уникальная для того времени – связана с влиянием, которое оказал на Мэтью Арнольда немецкий идеализм (и не только идеализм Гумбольдта) [714]. Поскольку начиная с XVIII в. Англия превыше всего ценила здравый смысл (если не сказать «здоровое национальное чувство» нацистов), англичане осуждали немецкий идеализм как непрактичный и высмеивали его, называя фантазией [715]. «Англоязычный мир до самой середины XIX в. в очень слабой мере усвоил философский идеализм… Да, все недоступное рациональному анализу отвергалось как суеверие или как что-то бессмысленное и незначащее» [716].
Немецкие же классики – возражая в том числе и признанным авторитетам – в эпоху «бурных гениев», напротив, настаивали на том, что никто не вправе распоряжаться творческим субъектом, личностью, свободной и независимой в своей творческой гениальности. То, что нацисты – а до них и англичанин Дизраэли – считали «народом», во времена немецкой классики, к примеру, Шопенгауэр, воспринимал как чернь, как филистеров, как массу «нормальных людей», враждебных гению. Ведь именно нормальности – всему, что позже окрестят «здоровым национальным чувством» – Шопенгауэр желал поражения в борьбе с гениальностью: пусть мир представления победит мир воли [717]. Он знал, что тяга к познанию вызывает ненависть филистеров. Но если на такую тягу есть «спрос, они превратят это в принудительный труд». Они настаивают на «реальном»; идеальное нагоняет на них скуку. «Апофеоз филистерства – … величайшая проблема». Шопенгауэр обращал внимание и на фельдфебельское «сбивание спеси» с интеллекта [718]. Ханс Гюнтер, гитлеровский популяризатор расизма, напоминал о ценностях и перспективах, которые давал именно средний класс (имея в виду нордическую кровь), и о том, что филистерство «подготовит хорошую расовую почву для нацистов» [719]. Он оказался как нельзя более прав.
У Джеймса Родса, например, тоталитарная гегемония среднего сословия ассоциировалась с филистерством, изображенным в «Степном волке» Германа Гессе [720]. А романтик Эйхендорф уже в «Поэтической [sic] войне с филистерами» говорил об «исконном праве людей… вести посев нового человечества», веря, что «лишенная мышц», неанглийская Германия уже избавилась от филистеров, презрительно бросив им: «Сгиньте, я вас бесконечно презираю» [721]. Немецкий романтик Клеменс Брентано дает «филистерам» более развернутую характеристику. «Они всегда болтают о “немецкости… Англичан… они любят только ради фунтов стерлингов… [Филистерство – это когда] человек должен думать: чего ему хватает – того с него и хватит, и это все,, остальное – глупость… Так возник обычай и соединился с пристойностью, и породил приличное… С тех пор как храбрость… и [истинные] герои опочили под земными сводами… вместо героизма… появились воинское подчинение, дисциплина… Они хотят, чтобы люди любили собственный кафтан, и ради этого раздали им одинаковые кафтаны» [722].
(«Мнения не будут опасны для государства», – иронизировал другой немецкий романтик Людвиг Тик, – едва только поэзия как глупость будет признана безобидной. «Умы будут подавлены»; ведь ум «сомневается… в реальности, приличной, целесообразной, в настоящей реальности». Будьте снисходительны, «прошу вас: посмотрите же на быт, на домашние, бюргерские добродетели» [723].)
Позже, в 1936 г., ныне забытый Ойген Винклер (1912–1936) в полной мере ощутил на себе, что означает окончательно созревшая агрессивность среднего класса, класса обывателей: «Новое и зловещее обнаруживают себя… в духе гниющего мещанства, в духе казарм, в духе, от которого задыхаешься» [724]. Это было сказано за несколько лет до массовых удушений в газовых камерах. Путь же в газовые камеры вел через восхваление тех, кто насаждал жесткость: «Жизнь жестка, и лишь тот, кто