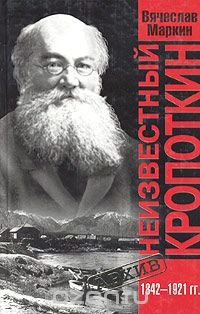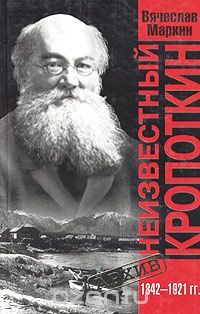В самом деле, если мы обратим внимание на потребности личности и общества, и на те средства, которыми человек пользовался на различных ступенях своего развития для удовлетворения, то мы убедимся в необходимости согласовать единичные усилия людей и направлять их к общей цели — удовлетворению нужд всех членов общества,—а не представлять удовлетворение этих нужд всем случайностям разрозненного производства, как это происходит теперь. Мы поймём, что присвоение небольшим меньшинством всех богатств, которые остались непотребленными в одном поколении, и должны были бы перейти к следующему поколению, отнюдь не соответствует интересам общества. Потребности трёх четвертей общества остаются в таком случае неудовлетворёнными, а бесполезная трата человеческих сил становится ещё более бессмысленной и ещё более жестокой.
Мы поймём, наконец, что самое выгодное употребление продуктов, это удовлетворение, прежде всего, наиболее настоятельных потребностей, и что ценность предмета, по отношению к его полезности зависит не от простого каприза, как часто говорят экономисты, а от той степени, в которой он нужен для удовлетворения действительных и наиболее настоятельных нужд.
Коммунизм — т.-е. общественный взгляд на потребление, производство и обмен — и общественный строй, соответствующий этому взгляду — является, таким образом, прямым выводом из такого способа понимания вещей — единственного, по нашему мнению, действительно научного понимания жизни обществ.
Общество, которое удовлетворит потребности всех и сумеет устроить ради этого своё производство, должно будет, кроме того, покончить и с некоторыми предрассудками, установившимися относительно промышленности, и прежде всего — с прославленной экономистами теорией разделения труда, которою мы и займёмся в следующей главе.
Политическая экономия всегда ограничивалась тем, что перечисляла факты, происходящие в обществе, а затем истолковывала их в интересах господствующих классов. Точно так же поступила она с разделением труда в промышленности: она нашла его выгодным для капиталистов и потому возвела его в принцип, в закон.
Посмотрите на этого деревенского кузнеца, говорил Адам Смит — основатель современной политической экономии. Если он не привык делать гвозди, то он с трудом сделает их двести или триста в день, и то они будут плохие. Но если же кузнец будет делать всю свою жизнь одни только гвозди, то он легко сможет произвести их до двух тысяч трёхсот в течение одного дня. И Смит спешил вывести из этого заключение, что надо разделять труд и всё специализировать. В конце концов у нас будут кузнецы, не умеющие делать ничего кроме шляпки или острия гвоздя, и мы таким образом произведём гораздо больше и обогатимся.
Что же касается того, — не потеряет ли кузнец, осуждённый на всю свою жизнь делать только шляпки гвоздей, всякий интерес к работе? Не окажется ли он, зная только одну эту частицу своего ремесла, целиком во власти хозяина? Не придётся ли ему сидеть без работы по четыре месяца в году? Не падёт ли его заработная плата, когда окажется, что его легко можно заменить мальчиком-учеником, — об этом Адам Смит не думал, когда восклицал: «Да здравствует разделение труда! Вот где золотая сыпь, обогащающая нацию!» И все стали восклицать вслед за ним то же самое.
Даже впоследствии, когда Сисмонди и Ж. Б. Сэй стали замечать, что вместо того, чтобы обогащать нацию, разделение труда обогащает только богатых, а рабочий, вынужденный всю свою жизнь выделывать какую-нибудь восемнадцатую долю булавки, тупеет и доходит до нищеты, даже тогда, предложили ли официальные политико-экономы какие-нибудь меры против этих последствий разделения труда? Никаких. Им не приходило в голову, что, занимаясь всю жизнь одною и тою же машинальною работою, рабочий потеряет ум и изобретательность, и что производительность нации падает вследствие этого, тогда как разнообразие занятий, наоборот, сильно увеличило бы производительность данного народа и развило бы изобретательность. И вот теперь, перед нами восстаёт именно этот вопрос.
Если бы, впрочем, разделение труда — постоянное разделение, на всю жизнь, а иногда и передающееся даже по наследству от отца к сыну — проповедовали одни только экономисты, то мы бы предоставили им говорить что хотят. Но дело в том, что идеи этих учёных мужей проникают в умы публики и извращают их. Слыша постоянно о разделении труда, о проценте, о ренте, о кредите и т. п., как о давно решённых вопросах, все — в том числе и сами рабочие — начинают рассуждать так же, как и экономисты, и преклоняться перед теми же идолами.
Мы видим, например, что многие социалисты, даже те, которые не побоялись напасть на заблуждения буржуазной науки, относятся с уважением к принципу разделения труда. Если вы заговорите с ними о том, как бы следовало обществу организоваться во время Революции, они скажут вам, что разделение труда нужно конечно сохранить: что если вы делали булавочные головки до Революции, то вы будете делать те же головки и после. Правда, вы будете заниматься этим всего пять часов в день, но всё-таки всю свою жизнь вы будете делать одни только булавочные головки; другие будут изобретать машины или проекты машин, которые дадут вам возможность удесятерить ваше производство булавочных головок; третьи, наконец, специализируются в высоких сферах литературного, научного и художественного труда. Вы же родились выделывателем булавочных головок, — всё равно как Пастер родился прививателем бешенства, и Революция оставит вас на ваших теперешних местах: его — в лаборатории, вас — за выделкой булавочных головок.
Вот этот-то именно ужасный принцип, бесконечно вредный для общества и притупляющий для личности, — этот источник целого ряда зол, мы и хотим разобрать теперь в некоторых его проявлениях.
Последствия разделения труда известны. В современном обществе мы разделены на два класса: с одной стороны — производители, которые потребляют очень мало и избавлены от труда думать, потому что им нужно работать, и в то же время работают плохо, потому что их мозг бездействует; с другой стороны — потребители, которые производят мало, или не производят вовсе ничего, но пользуются привилегией думать за других, и думают: но думают плохо, потому, что существует целый мир — мир работников физического труда, — который остаётся им неизвестным. Работники земледельческого труда не имеют никакого понятия о машине, а те, которые работают у машин, не знают ничего о работах полевых. Идеал современной промышленности, это — ребёнок, смотрящий за машиной, в которой ничего не понимает и не должен понимать; рядом с ним — надсмотрщик, налагающий на него штрафы, если его внимание хоть на минуту ослабеет, а над ними обоими — инженер, который выдумывает машину, за которой человеку останется только подкладывать, подталкивать и смазывать. Земледельческого рабочего стремятся даже совсем уничтожить: идеал современного сельского хозяйства, это — работник, нанятый на три месяца и управляющей паровым плугом или молотилкой, и отпускаемый, как только он вспахал или обмолотил. Разделение труда, это значит, что на человека наклеивается на всю жизнь известный ярлык, который делает из него завязчика узелков на фабрике, подталкивателя тачки в таком-то месте штольни, но не имеющего ни малейшего понятия ни о машине в её целом, ни о данной отрасли промышленности, ни о добыче угля — человека, который вследствие этого теряет ту самую охоту к труду и ту самую изобретательность, которые создали в начале развития современной промышленности все машины, которыми мы так гордимся.
То же разделение труда, которое установили между людьми, хотели установить и между народами. Человечество полагалось разделить, так сказать, на национальные фабрики, имеющие каждая свою специальность. Россия, говорили нам, предназначена природой выращивать хлеб: Англия — выделывать бумажные ткани; Бельгия — производить сукна, а Швейцария — поставлять нянек. Затем, внутри каждой нации должна произойти новая специализация: Лион будет производить шёлк, Овернь — кружева, Париж — различные мелкие вещи; Вознесенск будет делать миткали, Харьков — сукна, а Петербург чиновников. Если верить экономистам, то такое «разделение труда» должно было открыть человечеству безграничное поле, как для производства, так и для потребления — целую новую эру труда и громаднейшего богатства для всех.
Но все эти обширные надежды рушатся ныне, по мере того, как технические знания начинают распространяться повсеместно. Пока Англия одна производила бумажные ткани и обрабатывала в больших размерах металлы, а Париж один производил артистические мелочи и модные вещи — всё шло хорошо, и о благодениях того, что называли распределением труда, можно было говорить, не боясь опровержения.