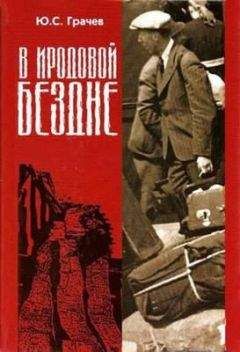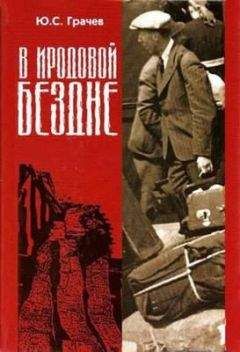Проходили дни, по-прежнему допрашивали его, и следователь сулил страшные наказания, которые ожидают его, а он все продолжал думать об одном и том же: думать о том, когда же эти люди, «неверующие», станут братьями, когда будет уменьшаться на земле зло, насилие, ненависть.
Иногда следователь и Лева подолгу смотрели друг другу в глаза, не говоря ни слова, и следователь первый опускал глаза. Совесть у Левы была абсолютно чиста. Но была ли она чиста у Таратковского? Как-то однажды Тартаковский сказал Леве, что когда он делает проступки и сознается в этом, то начальство прощает ему. Что это были за «проступки», он не пояснил. Может быть, этим он надеялся косвенно дать понять Леве, что ему тоже нужно «сознаться», и тогда ему будет легче.
Иногда, видимо стараясь заглушить какие-то остатки совести, Тартаковский начинал доказывать Леве, какое «великое значение» имеет его работа и работа его товарищей, когда они арестовывают и приговаривают людей к тяжким наказаниям.
— А если бы мы это не делали, кругом было бы столько убийства, восстания, беспорядки в стране. Только благодаря нашей самоотверженной работе поддерживается порядок общественной жизни, государственная безопасность…В этих его высказываниях нетрудно было узнать, что эти мысли о том, что «нас окружают враги, целое море врагов», внушены были ему «отцом народов», великим Сталиным.
Глава 17. Терпение (Допросы, очные ставки)
«Зная, что испытание вашей веры производит терпение».
Иакова, 1–3.
Дни шли за днями, мучительные, долгие, с еще более мучительными ночами. Леву перевели в другую камеру, которая была на верхнем этаже. Настало лето, погода была жаркая, и под раскаленной крышей в верхней камере было так жарко, как в парной. Люди сидели в одних трусах и обливались потом, пили «чай» в виде горячей воды; лишь ночью было некоторым облегчение от жары. Особенно тяжело доставалось сердечникам. Слышно было, как в соседней камере кто-то тяжело дышал, кричал в окно, задыхался. На всех окнах были так называемые козырьки-навесы, которые позволяли видеть лишь полоску неба. Но звуки доносились из камеры в камеру, и этот задыхающийся человек, к которому то и дело вызывали врача, хотя и был не виден, но производил на всех угнетающее впечатление.
Среди арестованных было очень много попавших в плен во время Отечественной войны. Они много пережили в гитлеровских лагерях, а теперь их обвиняли в «измене родине», якобы они получали от немцев какое-то задание и должны были в этом сознаться.
Среди этих людей, находящихся в камере, где был Лева, был некто Ганюшкин — высокий худощавый мужчина с горестным лицом. Возвращаясь с допросов, он часто охал, иногда плакал.
— Кто у вас следователь? — спросил, Лева.
— Тартаковский, — ответил Ганюшкин.
— Это хороший следователь, — сказал Лева. — Он никогда матом не ругается.
— Что вы, «не ругается!», что ни слово, то мат и мат.
Лева вначале подумал: может, какой другой есть следователь Тартаковский? Но когда Ганюшкин обрисовал внешность еврея, Лева перестал сомневаться в том, что это — тот самый, что ведет следствие и у него.
«Значит, — подумал Лева, — он такой же страшный матерщинник, как и все. А со мной он не матерится, может, из уважения, а может быть, хочет доказать, что он и без Бога хорош».
Однажды Ганюшкин после допроса с трудом вошел в камеру и сразу повалился. Тяжко стонал.
— Что случилось? — участливо спросил Лева.
Тартаковский ударил меня кулаком во всего размаху под ложечку. Я вот так и повалился, ничего не помню. Потом пришел в себя, и он отправил меня в камеру.
Удар был меткий, как раз в солнечное сплетение. Видимо, следователь знал, как нужно бить, и был обучен этому. Но нужно сказать, что Тартаковский проявил по отношению к пострадавшему своеобразную «гуманность»: дал распоряжение врачу выписать ему больничную диету, которую пострадавший получал, находясь в камере. Леве становилось все больше и больше ясно, насколько злы и несчастны эти люди, не знающие Евангелия.
Тартаковский продолжал усиленно вести следствие Левы.
— Признайтесь, какие вы дарили подарки молодым членам общины из Оренбурга.
— Никаких не дарил, ничего не помню, — говорил Лева.
— А вы вспомните, вспомните!
— Нет, ничего не помню, — отвечал Лева.
Следователь орал и наконец напомнил, что Лева каждому из молодежи в качестве «сувенира» прислал записные книжки для записей стихов из Библии на каждый день с надписью на первом листе: «1 Тим. 4, 16. Вникай в себя и в ученье, занимайся сим постоянно».
— Да, да, посылал, — сказал Лева. — Но я совсем об этом забыл.
— А мы не забыли. Это лишний факт, подтверждающий, как вы воспитывали молодежь в вашем христианском духе, а иначе сказать — как вы ее калечили, отвлекали от светлой, лучшей жизни и тянули в болото Библии.
Однажды та допрос пришел Снежкин и принес кипу писем.
— Вот эти письма в этом году писала вам жена.
Лева имел привычку все письма хранить, подшивать, считая, что они имеют значение как историческое, так и познавательное при обозрении этапов своей жизни. Он всегда бережно хранил письма, как драгоценность, и отсылал полученные домой.
И вот теперь следователи в один голос пытались внушить ему, что его жена — тоже «враг», ибо когда следователи знакомились с теми местами в псалмах, на какие она ссылалась, они «усмотрели» такие ссылки на псалмы, в которых Мария Федоровна якобы желает им мести за их дела.
— Вот возьмите, — говорил Снежкин, — стих такой-то. Мы Библию имеем. — Он открыл и посмотрел: — Это она призывает гнев Божий на нас. Как вы расцениваете такое поведение вашей жены?
— Очень просто, — отвечал Лева, — мы охотно пользуемся псалмами, но что у них, у евреев, ветхозаветное и жестокосердное; мщение, ненависть к людям, — мы это не воспринимаем, потому что по Христу мы прощаем и желаем всем добра. Да лучше всего вы у нее самой спросите, что она писала, и станет яснее.
Марусю, жену Левы, вызывали неоднократно. Ей много пришлось пережить. Все записи, письма тех лет были отобраны, сохранился только детский дневник Павлика. В нем она записывала, как рос ее маленький сын, передавала детские впечатления. Возвращаясь с допросов, она плакала, брала эти записи, перечитывала их и думала:
«Почему же, почему же разбилась их, казалось бы, идущая к покою семейная жизнь?»
Вот этот сохранившийся, не взятый «друзьями народа» дневничок, который Мария Федоровна, жена Левы, вела от лица своего маленького сына. Сын ее был в эти годы настолько мал, что сам не мог ни в чем разобраться:
8 марта 1949 г. Я подрос значительно, говорю много слов, бегаю по улице сам, кушаю хлеб с молоком, блины и лепешки… Сейчас мы с мамой в таком горе, что мама все время плачет, а я ее утешаю: у нас пропал папа.
1 марта он уехал в Самарканд за документами, чтобы поехать учиться домой, и вдруг исчез. Мама ищет всюду, и нет следа, она плачет и я плачу, а папа никак не идет; очень жду папу, зову каждое утро, смотрю на кровать, где он спал, но его нет и нет. Мы переехали на другую, маленькую квартиру, у наших хозяев злая собака. Я ее зову Динка и даю ей хлеба.
10 марта. Я проснулся очень рано утром, позвал маму, но ко мне подошла Нюся, а мамы не оказалось дома, я стал плакать. Нюся взяла на руки и стала качать; сколько я не звал маму, она не пришла. Нюся мне сказала, что мама с Марусей уехали искать папу в Самарканд. Наплакавшись, я уснул. Днем опять звал маму, но она не пришла…
12 марта, Вот мама пришла, я скорей к ней побежал, она меня поцеловала, но на глазах ее были слезы; она мне сказала, что папы нигде нет.
19 марта. Сегодня я ходил с мамой на станцию провожать двух Марусей домой, к бабушке. Я видел, как они садились в вагон, и сказал маме: «огон». Паровоз загудел: ду-ду!», и Маруси уехали.
Пришли мы с мамой и Нюсей домой, а их нет.
20 марта. Утром мама ходила на вокзал, ей хотелось встретить папу, но пала не приехал. Она купила мне яблок, чему я очень порадовался. Сегодня у мамы и Нюси молитва с постом о папе.
23 марта— Сегодня мама вечером уехала в Самарканд, так как ей прислали телеграмму. Она сказала мне, что едет к папе. Ночью я проснулся, стал звать маму, а ее нет, я стая плакать.
Утром проснулся, Нюся дома, а мамы нет, стал ждать маму.
25 марта. Воскресенье. Встал утром, покушал, играл на окне, а Нюся была в сенях. Вдруг дверь открылась, и вошла мама с мешком на плечах, вся мокрая: на улице шел сильный дождь.
— Мама, мама! — закричал я. — Мама! — Она бросила пальто, шаль, схватила меня на руки и стала целовать. Я смотрел на маму, гладил ее по лицу и вдруг сильно заплакал. Мама стала меня утешать и спрашивать, о чем я плачу? А я плакал от радости, что она приехала; так долго я еще не расставался с ней в своей маленькой детской жизни.