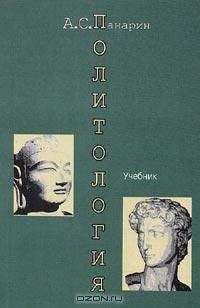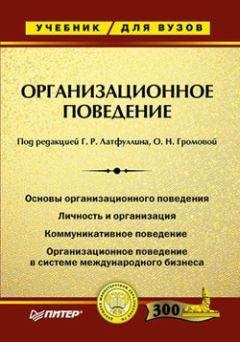Вероятно, такое состояние общественного сознания надо признать реактивным – возникшим как реакция на крайности коммунистического очернительства окружающего мира. Инфантильность доверчивой ненависти к Западу сменилась инфантильностью доверчивого энтузиазма. Однако сегодня, кажется, пришла пора взросления: на окружающий мир предстоит взглянуть трезвыми глазами народа, умудренного опытом, ибо, как следует признать, опыт нашей западнической политики и проводимых под ее эгидой реформ – поистине отрезвляющий опыт. Это касается как внутреннего положения дел в России, так и тех потерь, которые она понесла на международной арене но причине неумеренной доверчивости наших правителей в отношении демократического Запада как носителя «нового мирового порядка». В этом новом порядке все более явственно проступают старые черты неравенства, несправедливости, гегемонизма и даже экстремизма.
Поэтому наш дискурс о политике на Западе и на Востоке будет развертываться на основе общей презумпции несовершенства земных порядков, по-разному проявляющегося на Западе и на Востоке, но всегда обязывающего человека не терять трезвости, не поддаваться иллюзиям, не доверять мифам о скором наступлении земного рая, как только будет выполнено одно «заветное» условие (принята «безупречная» форма собственности, «безупречный» политический режим и «безупречное» учение). Пора понять, что такого рода «заветным условием» соблазняет Люцифер (Мефистофель), заманивающий в опасную ловушку. Человеку много дано на этой Земле, он многое в состоянии сделать, но у него нет никаких чудодейственных гарантий успеха: и наша личная жизнь, и жизнь историческая – это постоянный риск, в условиях которого нам всегда требуются трезвость и мужество.
Ниже будут описаны основные принципы политической жизни на Западе. К ним мы тоже должны подходить с позиций критического реализма, которому учат великие мировые религии: наша земная жизнь несовершенна но определению, а это означает, что принципы, хорошие в одном отношении, оказываются плохими в другом – за все приходится платить свою цену. Поэтому и структура каждого параграфа, раскрывающего очередной принцип политической жизни, предполагает ответ на три вопроса: о происхождении и условиях действия указанного принципа, о его собственно политическом содержании и, наконец, о его цене – связанных с ним моральных и практических издержках.
ГЛАВА I
Политика как разновидность технологии
Возможность свободы не в том, что мы
можем выбирать между добром и злом.
Возможность в том, что мы – можем.
С. Киркегор
1. Происхождение принципа
Вместе с порождением европейского модерна (нового, посттрадиционного общества) возник и принцип технологического отношения к миру. Этот принцип выступает в двух разновидностях: технологического отношения к природе, к естественной среде; и технологического отношения к обществу, к социальной среде.
Какие установки определяют обе эти разновидности технологического принципа?
Во-первых, установка разъединенности, разлада с природным и социальным порядком. Человек эпохи зарождения европейского модерна (XV век) почувствовал себя выпавшим из мирового порядка великим маргиналом Вселенной, космические гармонии которой ни к чему его не обязывают. Такое «мировое отщепенство» ренессансного человека [5] – факт удивительный, новый в мировой истории. Все великие традиционные учения о мире учили человека тому, что порядок Вселенной представляет собой высшую гармонию или высший закон, который никому не дано нарушать. Как сказано в «Лао-цзы» (конфуцианской «Книге ритуалов»), «это значит, что ни в высотах небесных, ни в глубинах вод нет такого места, где нельзя было бы обрести нравственный закон. Нравственный человек начинает обретать нравственный закон с отношений между мужчиной и женщиной, а заканчивает в великих пределах мироздания» [6].
Для традиционного человека характерно не только это признание великих законов мироздания, которые «не нами созданы и не нам их отменять», но и умилительно-патетическое отношение к такому устройству Вселенной. В традиционной картине мира Вселенная реабилитирована Богом: благодаря ему ее порядок уже не представляет чего-то чуждого, холодно-безразличного или тем более враждебного человеку, а выступает как нравственный закон, созвучный нашим представлениям о превосходстве добра над злом, порядка над хаосом. Такое чувство сыновней принадлежности миру, вероятно, объясняется двумя обстоятельствами.
Во-первых, природной эстетикой окружающего пейзажа, тогда еще не обезображенного промышленностью. Красота природы не могла не действовать на чувства традиционного человека, который был не только тружеником на земле-кормилице, но и художником, эмоционально связанным с элементами естественной среды. Это чувство причастности природе ярко выражают теллурические мифы, характерные для всех традиционных культур. Особенно устойчивым был теллурический миф русской традиционной культуры. Связь с землей-кормилицей у русского крестьянина никогда не была чисто утилитарной, он не воспринимал ее как «средство производства». Такой образ, как «мать – сыра земля», означает восприятие природы как родного лона, из которого вышел человек и с которым он продолжает быть связанным видимыми и невидимыми нитями.
Во-вторых, со времен зарождения мировых религий космический порядок стал выступать в значении великого нравственного закона, специально обращенного к человеку и обязывающего его к сыновьему повиновению этому закону – не на страх, а на совесть. Бог так создал и направил этот мир, что он не возмущает ни нравственное, ни эстетическое чувство человека. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1:8).
Мы ничего не поймем ни в психологии эпохи зарождающегося модерна, ни в основах технологического отношения к миру, если не увидим, что первым толчком здесь послужило чувство отщепенства и богооставленности: западный человек обиделся на мир и перестал себя считать чем-то обязанным порядку Вселенной. Технологическое отношение к миру появляется тогда, когда возникает ощущение того, что мир устроен неправильно, что человеку ничего в нем не гарантировано изначально и потому он вправе сам о себе позаботиться и использовать для этого любые средства.
Традиционный человек был в целом оптимистическим фаталистом –он не только верил в незыблемость порядка, но и в то, что этот порядок в конечном счете оправдан, за ним лежит некий высший смысл.
Новый человек эпохи модерна, напротив, почувствовал себя волюнтаристом, готовым противопоставить себя миру и преобразовывать его порядки на свой страх и риск. Как объяснить возникновение этого чувства утраченной мировой гарантии? Вероятнее всего, это связано с крушением традиционного сословного уклада. В традиционном сословном обществе статус каждого был надежно гарантирован. Сын дворянина наследовал дворянский статус и передавал его своим детям: они знали это и могли по данному поводу не беспокоиться. Аналогичными гарантиями обладали представители других сословий – крестьяне, купцы, ремесленники. К этому следует добавить еще одно соображение: сын, наследующий статус и профессию отца, формировался тем самым в семейно освоенном мире, носящем следы присутствия собственных предков, завещавших ему плоды трудов своих и весь свой социальный и нравственный опыт. С крушением сословного общества, разложением средневековых общин и корпораций социальный статус перестал быть гарантированным. В современном обществе, которое зарождалось именно тогда, на заре европейского модерна, родители, при всей их любви к детям, не могут завещать им свой социальный статус. Возникают разрывы времен, выступающие как разрывы поколений, и рождается новый афоризм: «у меня (тебя) своя жизнь». Это чувство утраты преемственности может переживаться по-разному: и как освобождение от гнета традиций и как брошенность, покинутость в мире, ставшем чужим. Но в любом случае речь идет о необходимости устраиваться на свой страх и риск.
Специалисты, исследующие зарождение европейского модерна, обращают также внимание на институт майората. Этот институт предусматривал наследие отцовского имения одним только старшим сыном (с целью предотвращения дробления и распыления земельной собственности). Старший сын – наследник оседал на земле и выступал как добропорядочно-консервативная фигура – наследник и хранитель устоев. Но что оставалось делать младшим братьям, по взрослении выпадавшим из отцовского гнезда? Дж. Нидам, специалист в области социологии науки, в немалой мере связывает технологические авантюры модерна с мироощущением этих младших сыновей – блудных сынов Запада [7]. В основе нового, «нонконформистского» отношения к миру, характерному для эпохи модерна, в значительной мере лежит их обида, их неприкаянность. Технологическое отношение к миру основано на чувстве неудовлетворенности миром в сочетании с ощущением своей свободы от традиционных ограничений. Такое мироощущение весьма близко младшим братьям – лишенцам системы майората. Но в известном смысле это чувство обделенного, но самолюбивого и готового к реваншу младшего брата характерно для всего Запада возрожденческой эпохи. Запад чувствовал себя молодой цивилизацией по сравнению с такими древними и «культурно имущими», как китайская, индийская или (до XV века) совсем рядом находящаяся византийская. Он чувствовал свою культурную обделенность, но в то же время неким парадоксальным образом связывал с нею и свое превосходство: превосходство свободы от стеснительных препон и ограничений тысячелетних традиций.