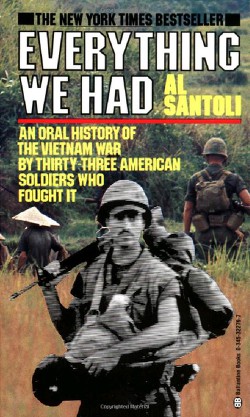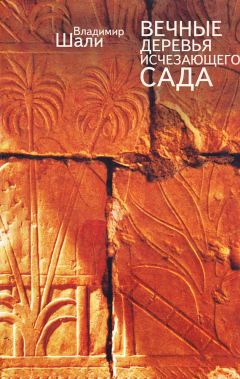Наши отношения с теми, кто держал нас в плену - очень интересная тема. По-моему, вьетнамцы там были в основном специалисты своего дела, и охранники, которые работали в лагере, когда меня сбили в 1967 году, оставались с нами до конца войны. Кое-что менялось, но в армии везде так: если уж начинаешь чем-то заниматься, то это надолго. С течением лет мы в основном притёрлись друг к другу. И я ощущал, по мере того как проходили год за годом, определённое уважение к нам, которое возникало с их стороны.
Враждебных чувств по отношению к ним у меня не было. Я был военным, выполнявшим то, что мне приказывали, и их я рассматривал как военных, выполнявших то, что приказывали им. Злобы во мне не было. Несомненно, я - и, само собой, я уверен сейчас, что в ретроспективе мои эмоции воспринимаются уже очень даже по-другому - я, наверное, относился там ко всему более серьёзно; пропаганда и так далее всё не выходили у меня из головы. Но я смотрел на всё с той точки зрения, что во всём виноваты их руководители, а не отдельные охранники. К охранникам этим я злости не испытывал.
К вьетнамскому народу негативных эмоций я не испытывал. Будучи военным, я делал своё дело. Я старался очень тщательно планировать свои вылеты на бомбардировки, чтобы избегать ударов по мирному населению. Я инструктировал свою группу и планировал их действия так, чтобы обеспечить нанесение ударов только по военным целям, потому что я знал, что мы ведём войну с преимущественно аграрной страной, и что люди там небогаты, и мы изо всех сил старались поражать только военные цели, избегая ранений или смертельных поражений среди мирного населения.
Среди нас было несколько пленных, которые стали с ними сотрудничать, и мы очень здраво к этому относились. Мы понимали, что пленные подвергались сильному давлению, что те, кто захватил нас в плен, применяли меры принуждения. Нам всем приходилось нелегко. Поэтому мы обычно прощали тех, кто пытался сопротивляться, но, из-за грубого обращения или по иной какой-то причине, против собственной воли, делал что-то на пользу противника. А вот к кому мы действительно относились плохо, так это к тем, кто отказывался возвращаться в наши ряды. Мы установили порядка пяти пленных, которые явно оторвались от других и по собственному желанию начали творить всякие дела. В конце концов, мы устроили так, что смогли пообщаться с каждым из них. Мы заставляли их вернуться в наши ряды: 'Мы понимаем, что по той или иной причине они тебя отделили от других, обманули, пользуются тобой, но мы требуем, чтобы ты вернулся в наши ряды и стал как мы все, и начал выполнять свой долг согласно Правилам поведения'. Лишь двое пленных отказались.
Мы все были пилотами, и поэтому в общем и в целом пленные там изо всех сил старались соблюдать Правила поведения. Они были горячими патриотами, и были крепко связаны с остальными военнопленными. Как я уже говорил, было много таких, кто, просто из-за сильного давления, делали нечто, чем потом не гордились, но они всегда стремились вести себя достойно.
В 1970 году, после набега американских сил на тюрьму Сонтай с целью освобождения содержавшихся там военнопленных, всех пленных, кто был тогда на Севере, перевели на один объект. По-моему, произошло это уплотнение на следующий день после Рождества. Нас перевели из Лас-Вегаса в другую часть Хоало, которую мы прозвали 'Кэмп-Юнити' [лагерь 'Единство']. Сначала нас разместили в больших камерах. Меня перевели в камеру, где уже было сорок три человека. Там были преимущественно люди в званиях повыше; те, кто больше всех не поддавался, все были со мной. Я думаю, там было ещё около восьми камер по тридцать пять-сорок человек в каждом. По-моему, прожили мы таким образом месяца с полтора.
Однажды в нашей камере мы проводили религиозную службу - вели её три человека. К нам заглянул охранник, увидел, и это ему очень не понравилось. За этими тремя пришли и увели их. Мы очень возмущались такими действиями. Поэтому, по заранее придуманному сигналу, тем же вечером мы организовали шумную акцию протеста, начав кричать одновременно по всему лагерю. Завершили мы её пением гимна 'Усеянное звёздами знамя' [Государственный гимн США]. Ну, это вьетнамцам совсем уж не понравилось. Прежде всего, это очень обеспокоило лагерных начальников, потому что они понимали, что если об этом узнает их начальство... и я уверен, что до Ханоя дошли слухи о том, что они выпускают ситуацию из-под контроля, что у них там тюремный бунт. Они всерьёз перепугались. Им надо было срочно что-то предпринять. Всех старших офицеров отделили от других и снова расселили по маленьким камерам. Мы оставались в этих маленьких камерах до конца войны. Таким образом, из шести лет мне выпало провести в группе полтора месяца; остальное время я жил в маленькой камере. Но в результате тем, кто там остался, позволили проводить церковные службы. Мы почувствовали, что в некотором смысле одержали победу.
Пока мы жили все вместе в этих больших камерах, это было просто здорово, потому что мы могли устраивать занятия и обмениваться информацией, и проводить очень продуктивные для ума программы. Там были ребята, которых я не видел годами. Было очень трогательно, когда мы собрались вместе и смогли побеседовать и увидеть друг друга лицо в лицо, тех людей, о которых ты знал, что они участвуют в общих делах, но не имел никакого представления о том, что с ними и как. Я был просто поражён, увидев, насколько поразительно военнопленные отличаются друг от друга по своим познаниям и интересам. Каждого, кто имел какую угодно степень в той или иной области знаний, назначали преподавателем. Я большой любитель истории, увлекаюсь историей Гражданской войны, поэтому я прочёл курс по Гражданской войне. Меня очень интересуют иностранные языки, поэтому за несколько лет, просто обмениваясь словами при каждой возможности, я научился очень хорошо говорить по-французски. Вместе с нами держали пилота из Южного Вьетнама, хотя и жил он в одиночке. Мы организовывали с ним общение, и он нашёптывал слова. Он был нашим учителем французского. Среди нас были люди, владевшие испанским, были те, кто вёл курсы по автомеханике, фотографии, английскому языку, философии - по чему угодно. Мы действительно находили для себя полезные занятия. Нельзя было без этого.
За время, проведённое в тюрьме, я страшно много всего узнал. Набрался многих познаний. Вы можете сказать: 'Господи, это ведь шесть пропавших лет, без доступа ко всему, что происходило в мире. Разве вы умственно не деградировали?' Во многих отношениях я развился в смысле множества тех качеств, которые я приобрёл. Но я считаю, что самое важное, что выносит человек из такого опыта - это великое ощущение внутреннего спокойствия и умиротворённости, потому что ты знаешь, что с тобою в жизни очень мало что может произойти из того, с чем ты не сможешь справиться... В сущности, ничего не может произойти. И это замечательное ощущение. Оно дарует тебе умиротворённость, которую не купишь ни за какие деньги.
Уверен, что есть военнопленные, вышедшие из этих испытаний опустошёнными, и очень жаль, что это так. Но я считаю, что те люди, кто представлял собой сложившиеся личности, были людьми стабильными и обладали качествами, необходимыми для того, чтобы справляться с теми испытаниями, они вышли оттуда даже лучшими людьми, чем были до того. Я вижу, сколько всего ценного я вынес из этих испытаний, и так замечательно дойти в своей жизни до такого состояния, когда знаешь, что можешь справиться с любыми испытаниями. По-моему, это самое большое изменение, которое я отмечаю в себе. Когда ты ещё в юном возрасте, и столько неизвестного впереди, ты склонен переживать или волноваться по поводу того, сможешь ли справиться с тем, что будет. Я считаю, что это нормально, часть процесса взросления, и эту зрелость и уверенность ты всё равно приобретёшь, но я думаю, что нахождение в тех условиях сделало нас более зрелыми и уверенными в себе за счёт того, что мы благодаря этому приобрели. Мне было тридцать семь лет, когда меня взяли в плен, и мне достаточно повезло, что в тот момент у меня был уже определённый жизненный опыт и чувство ответственности. Несомненно, если уж суждено было быть сбитым и попасть в плен, то в возрасте за тридцать ты находился в намного более выгодных условиях.