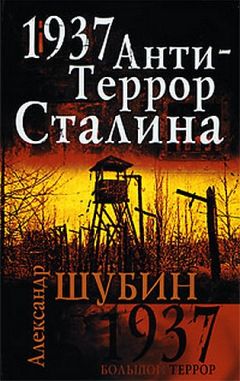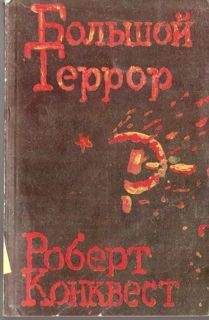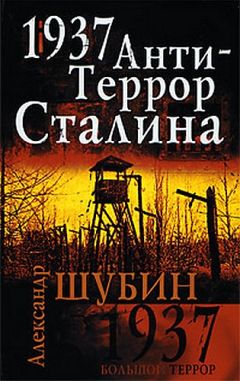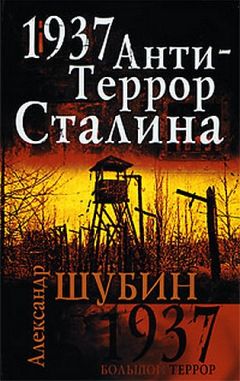Следовательно, термин тоталитаризм правомерно употреблять только в конкретно-историческом значении — как стремление власти к тотальному управлению общественной жизнью. При Сталине такой тоталитаризм был, все замеченные неподконтрольные общественные группы уничтожались. При Хрущеве, когда допускались различные общественные течения и существенные оттенки политических взглядов, — уже нет. Общество перешло от тоталитарного к более мягкому — авторитарному состоянию[529].
Таким образом, на некоторых этапах жизни советского общества ему были присущи черты тоталитаризма, но не они определяют логику развития советского общества на протяжении всей его истории.
Тоталитаризм является вполне органичной «надстройкой» над индустриальной системой, когда все общество превращается в единую фабрику под руководством одной администрации. Но западные элиты предпочли более мягкую систему согласования интересов между тоталитарно организованными фирмами, бизнес-группами и бюрократическими кланами. Столкнувшись с кровавыми издержками тоталитаризма, коммунистическая бюрократия также предпочла перейти к более гибким формам господства. И этот отход от тоталитаризма позволил советскому обществу завершить переход к индустриальному урбанизированному обществу к 60-м годам, когда большинство населения РСФСР стало жить в городах[530]. Но именно сталинская система с жестокостью, не уступавшей рыцарям первоначального накопления, сконцентрировала ресурсы, необходимые для построения промышленной базы, на которой дальше достраивалась индустриальная система советского общества.
Экстренный, форсированный характер модернизации вызвал огромные жертвы, которые могут восприниматься как неоправданные. Тем более, что стремительность модернизации привела и к растранжириванию ресурсов, разрушениям в сфере сельского хозяйства. Образовавшаяся в результате система оказалась недостаточно гибкой, страдавшей множеством социальных болезней, которые сказывались на развитии советского общества всю его историю. Эти «минусы» очевидны.
Но нельзя не замечать и другого — эволюционный путь модернизации в XX веке привел большинство стран мира (особенно за пределами Европы) к модели зависимого капитализма, к искусственному закреплению отставания «Третьего мира» от «Первого». Так что проблема «издержек прогресса» неоднозначна.
Одно несомненно — в 30-е годы страна перешла качественную грань своего развития, прошла гораздо больший путь, чем Франция во времена якобинцев и термидорианцев. Если «термидор» — это откат к прошлому, то СССР уходил от прошлого необратимо. Если «термидор» — вытеснение революционного наследия признаками «нормального», общемирового развития, то его элементы были неизбежны. Хоть и своей дорогой, СССР шел по общему пути индустриальной модернизации. СССР не стал ни воплощением идеалов социализма, ни «империей зла». Он стал своеобразным вариантом индустриального общества. И своеобразие это вытекало из трех источников — культурного наследия народов России, социалистического проекта и того направления, которое придали ему Ленин и Сталин.
Своеобразие советского общества, советской культуры (в отличие от других авторитарных индустриальных обществ) — в его мессианской идеологии, основанной на ценностях народовластия и социальной справедливости.
Противники Сталина из лагеря Троцкого понимали, что социализм, однородное общество без эксплуататоров, не может существовать без демократии, и обвиняли Сталина в том, что он подавил демократию в угоду бюрократической касте. Но при этом и сами троцкисты не были демократами, так как требовали демократии только для избранных, для сторонников коммунистических идей.
Уничтожил ли Сталин демократический дух большевизма, и был ли вообще большевизм демократическим движением?[531] Если Сталин изменил большевизму (а не большевикам), то можно говорить о политическом «термидоре» с последующим переходом к «империи» (по аналогии с Наполеоном).
Мы видели выше, что большевики-оппозиционеры видели «перерождение» партийной элиты в росте имущественных привилегий и ликвидации демократии. Это взаимосвязано, так как отсутствие демократии обеспечивает бесконтрольность бюрократической касты и закрепление ее привилегий.
Собственно, привилегии правящего слоя появились уже во время «военного коммунизма» и получили свое развитие во время НЭПа. Эти отклонения от принципов социальной справедливости не идут, конечно, ни в какое сравнение со злоупотреблениями нынешних посткоммунистических господствующих классов, но и они возмущали идейных коммунистов. Однако понятно, что имущественное расслоение было неизбежно в условиях иерархического общества, установленного большевиками еще до того, как Сталин победил в борьбе за власть. Тот, кто определяет принципы распределения материальных благ, заранее простимулирован, чтобы использовать это право себе во благо. И тогда остается две возможности: чистить государственный аппарат от наиболее зарвавшихся чиновников или менять сами принципы организации социальной системы, общественные отношения, отбирая у чиновников их широкие права — саму возможность злоупотреблять.
Сколько бы Троцкий и его сторонники ни говорили об отрыве руководителей от масс, иерархичности и авторитарности социально-политической системы, они вовсе не собирались предоставить «мелкобуржуазному» народу право решать, куда следует двигаться стране. Вполне очевидно, что и в 1923 г., когда у власти стояли будущие «троцкисты», СССР уже был авторитарным государством. «Демократия» для коммунистов, за которую выступал Троцкий, — это права для «своих», для проверенных коммунистов, а не демократия и равноправие для всех жителей. «Новая аристократия» и «новая бюрократия», о которых писал Устрялов, — партийно-государственное чиновничество, позднее известное как номенклатура, — возникло в огне Гражданской войны, а не во времена правления Сталина. Так что «перерождение» 30-х гг. — это лишь естественное продолжение тех процессов, которые были запущены победой большевиков в Великой Российской революции. «Термидор» как создание новой классовой иерархии начался уже в 1918 г.
* * *
Сталин не прочь был противопоставить ветеранам большевизма народ, массу рядовых тружеников. Сталин то и дело в своих речах апеллировал к воле народа. Например: «Вот видите, на какие вышки нас народ поставил»; «Руководители приходят и уходят, а народ остается. Только народ бессмертен. Все остальное — преходяще. Поэтому надо уметь дорожить доверием народа»[532]. Значит ли это, что он был демократом? «Демократизм» Сталина совершенно абстрактен. Народ — это некое целое, волю которого знает Сталин. Вождь может возвысить человека из низов, «поставить на вышку», а может и «дать вышку», стереть в порошок. Это понимание, конечно, очень далеко от демократии в любом ее варианте.
Демократия, народовластие предполагает, что рядовые граждане имеют возможность участвовать в выработке решений, которые их касаются. Подобные принципы закладывались в основу советов. Но большевики уже в 1918 г. заменили власть советов «советской властью» — неограниченной властью советского правительства и коммунистического руководства. И эта замена прямо вытекала из социально-экономического централизма марксистов. Если общество должно управляться по единому плану, то на местах можно принимать только малозначительные решения, соответствующие центральным директивам. Если все будут действовать кто во что горазд, в соответствии со своими представлениями, никакой плановости не получится. В этом Троцкий и Сталин были вполне согласны.
Платой за централизм и плановость стал отказ от демократии и равноправия. В этом смысле «термидор» состоялся и не мог не состояться. Сам марксистский идеал, в котором искусственно соединялись и демократия, и равноправие, и централизм, и подчинение всех работников плану, — при столкновении с жизнью должен был расщепиться на составляющие. Либо воля центра, либо самоуправление работников. Коммунистам предстояло сделать выбор, и уже в 1918 г. большевики его сделали — централизм был важнее для них, чем демократия. Это и было начало политического «термидора», уход от изложенных в работах Маркса и Ленина («Государство и революция») идеалов «государства не в полном смысле слова», в котором уже нет отдельной от общества армии, репрессивной системы, иерархии облеченных властью чиновников. Этот поворот произошел уже тогда, когда Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев и Бухарин вместе руководили республикой.
«Перерождение» революционных движений неизбежно уже потому, что их планы осуществимы лишь частично. Люди, которых поток революции вынес на общественную вершину во имя бескомпромиссного разрыва с прошлым России, должны были теперь как-то управлять завоеванной страной, которая за короткий срок просто не могла существенно измениться в своей социальной психологии. Радикалы расселись по жердочкам пирамиды управления и вернулись к обычной жизни с ее текучкой, бытовыми проблемами и интересами. Решение радикальных, масштабных задач пришлось разделить на множество маленьких тактических шагов. Это требовало новых людей, но вызывало раздражение у миллионов солдат и офицеров революции, привыкших рубить гордиевы узлы истории. Троцкий писал о судьбе революции: «После беспримерного напряжения сил, надежд и иллюзий наступил длительный период усталости, упадка и прямого разочарования в результатах переворота»[533]. Эти горькие слова во многом справедливы. И все же Троцкий недооценил энергию идей. Раз попробовав менять жизнь, творить историю, даже уставший от революционных бурь человек не отказывается до конца от своей мечты. Он продолжает действовать, может быть, иначе, но ради той же мечты о лучшем будущем. Отлив революционной энергии масс не ослабил борьбу в правящей элите по поводу путей развития страны. За пессимизмом времен НЭПа пришел энтузиазм первых пятилеток.