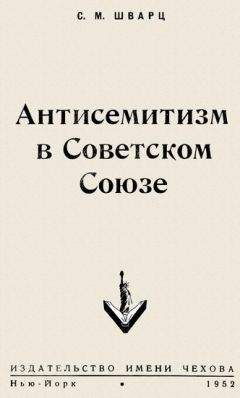Призвание каждого человеческого существа состоит в том, чтобы, выработав собственное, мыслящее мировоззрение, стать подлинной личностью.
Альберт Швейцер37
Но никто не может нам помочь, если мы не позаботимся о себе сами.
Когда умер Сталин, я принадлежал к тому меньшинству молодых людей, которые радовались его смерти, хотя ни их лично, ни их родителей почти не коснулись репрессии. (Я говорю "почти не коснулись", потому что родителей не арестовывали, а по тогдашним масштабам, все остальное выглядело терпимо. Но моя мать - из раскулаченной середняцкой семьи. В молодости ей приходилось скрывать свое "происхождение", живя из-за этого в постоянном страхе перед разоблачением. Моя бабка, мать матери, не только лишилась хозяйства во время коллективизации, но и была свидетельницей страшного голода на Украине, когда целые села вымирали просто потому, что "народная" власть отобрала у них весь хлеб до зернышка. Я помню, как незадолго перед смертью в 1945 году она сказала мне о Сталине: "Если бы я могла, я задушила бы его этими руками". Руки у нее, хотя она и прожила последние пятнадцать лет в городе, остались крестьянские, описания которых я читал в русской и западной литературе: темные от солнца и ветра, со вздутыми жилами и суставами. Мой отец, профессор агрохимии, был человеком подчеркнуто беспартийным. Он ясно понимал смысл происходящего и передал это понимание детям.)
С детства я был воспитан в твердом принципе: за пределами семейного круга — никаких разговоров о политике, никаких упоминаний о репрессиях, никаких анекдотов. После смерти Сталина, а особенно после 1956 года, о политике стали говорить все. Появилась реальная возможность без большого риска как-то воздействовать на общественную жизнь вокруг себя, хотя бы на уровне профсоюзного собрания, стенгазеты, философского семинара. Я стал пытаться использовать эти возможности, и мне казалось, что каждый нормальный человек должен вести себя и будет вести себя так же. Мне казалось, что борьба за прекращение всеобщего холуйства перед начальством, за гласность общественной жизни, за право самовыражения не только необходимо следует из общих этических принципов, но и должна доставлять душевное удовлетворение, которое оправдает какой-то необходимый уровень риска. И я был очень удивлен, когда обнаружил, что у подавляющего большинства окружающих меня людей этот уровень просто-напросто равен нулю. Максимум, на что можно было рассчитывать, — что они будут рады, если необходимые перемены произойдут сами собой.
Пытаясь понять это явление, я вступал в длительные обсуждения и споры. Сначала они вращались исключительно вокруг вопросов политических и экономических. Но постепенно я стал понимать, что не здесь лежат первопричины, определяющие поведение людей. Все цепочки аргументов, начинающиеся с конкретных, локальных проблем, проходили через общие социально-экономические и политические проблемы, а затем настойчиво и зримо упирались в основную проблему: зачем мы живем? Каков смысл жизни? Раньше я думал, что частные полурешения этой проблемы, которые так или иначе принимает каждый человек (я, например, уже давно решил посвятить свою жизнь науке), вполне достаточны и для него самого, и для общества в целом. Теперь я увидел, что их отнюдь не достаточно. Я увидел, что ни у меня, ни у моих друзей нет необходимых общих критериев для принятия решений. Я не имею в виду, конечно, формальных критериев, которые позволяли бы вычислить значение некоего икса, и если он окажется меньше единицы, то выбирать да, а если меньше единицы, то нет. Таких критериев нет и никогда не будет. Человек, стоящий перед проблемой нравственного выбора, в конечном счете всегда решает эту проблему интуитивно, в соответствии со своей совестью. Но интуиция не висит в безвоздушном пространстве, работа интуиции определяется фундаментальной системой идей и ценностей, мировоззрением человека. Вопрос о смысле жизни не может быть исчерпан одной фразой или несколькими правилами. Ответом на него является мировоззрение.
Но никакого мировоззрения не было. Какие-то остатки старого, какие-то зародыши нового, а в общем — ничего. Пустота. Вакуум. И единственной различимой силой в этом вакууме была инерция страха, инерция, не встречавшая сопротивления и поэтому имевшая все шансы продолжаться до бесконечности.
Я стал все реже и реже вступать в спор на политические темы, а потом и вовсе прекратил это занятие. Я убедился, что даже небольшие различия в остатках мировоззрения в большей степени влияют на поведение человека в обществе, чем все социально-политические дискуссии. Логика не поможет убедить человека сделать нравственное усилие, если он не знает, зачем он живет, или знает, что живет не за этим. За критическими высказываниями таких людей я различал знакомые до тошноты очертания кукиша в кармане, а в каждом рассуждении невозможно было не видеть, что оно построено по столь же знакомым законам логики самооправдания. Я понял, что мне необходим синтез моих общественных воззрений с представлением о смысле жизни, которое раньше казалось мне сугубо личным делом. Без такого синтеза я не мог найти основы для принятия конкретных решений. Без синтеза была пустота, а в пустоте тела движутся по инерции безостановочно. Мне стало ясно, что книга об инерции страха, а вернее, против страха, которую я задумал, должна быть, по существу, книгой о мировоззрении.
Наверное, ни один политический переворот в истории не производил такого разрыва в культурной традиции, как революция 1917 года. Строя свое личное мировоззрение, каждый из нас не может просто продолжить какую-либо из линий дореволюционной русской культуры. Мы можем и должны их использовать, но не в нашей власти срастить омертвевшие ткани. Мы должны начинать с начала — живя в промышленно развитой стране в конце двадцатого века. Это эксперимент, имеющий мировое значение.
Я надеюсь, что тот, кто ощущает необходимость целостной системы взглядов, прочтет мою книгу с интересом. Мировоззрение, к которому он идет или пришел, будет в чем-то совпадать с моим, в чем-то от него отличаться. Но в одном я уверен. Любое целостное мировоззрение, способное увлечь человека, определить для него смысл жизни, будет антитоталитарным, оно будет побуждать человека к активному вмешательству в общественную жизнь. Ибо наша общественная жизнь унизительна и абсурдна. Она отнимает смысл у всего, к чему прикасается, а прикасается она ко всему. Какой бы род деятельности вы ни избрали — науку ли, искусство, производство товаров или воспитание детей или любой другой — вы постоянно убеждаетесь, что в попытках сделать нечто значительное тоталитаризм снова и снова преграждает вам дорогу, и если вы в самом деле хотите что-то сделать, то вынуждены будете вылезть из скорлупы своей узкой профессии. (Мальчики и девочки! Не слушайте своих родителей, когда они поучают вас расхожей мудрости тоталитарного человека. Они хорошие люди, но искалечены годами страха и унижений. Они хотят вам добра, но учат, как лишать жизнь смысла. Жизнь интереснее, а вклад в нее каждого индивидуума - значительнее, чем они привыкли думать.)
Сейчас реальный вклад в оздоровление нашей общественной жизни — это в той или иной форме борьба за основные права личности. В конечном счете эта борьба невозможна без открытого противостояния тоталитаризму, открытого требования соблюдения прав человека. Никакими софизмами не обойти этой истины.
Каждое выступление в защиту прав человека в некоторой степени меняет ситуацию в стране. Ни одно нравственное действие не остается без последствий. Движение за Права Человека — это уже заметная брешь в глухой стене тоталитаризма. За год, прошедший с июня 1975 г., когда я заканчивал первую часть книги (я отдавал книгу в самиздат по частям), произошло два важных события, укрепивших Движение. Первое — присуждение Нобелевской премии мира академику Сахарову; второе ~ рост возмущения на Западе преследованиями инакомыслящих в Советском Союзе, приведший, в частности, к изменению позиции французской компартии. Тот факт, что Жорж Марше не приехал на XXV съезд КПСС в феврале 1976 г. "из-за расхождений по вопросу обращения с инакомыслящими", как он заявил корреспондентам, свидетельствует, что диссиденты в СССР стали явлением, с которым уже нельзя не считаться.
Значение диссидентов для общественной жизни внутри страны в том, что они создают новую модель поведения, которая одним своим присутствием влияет на каждого члена общества. Диссидентство — это вынужденный выход из системы. Но судьба системы зависит в конечном счете от тех, кто остается в ней. Малые изменения в мышлении и поведении многих людей — вот что сейчас нужно в первую очередь. И конечно, для демократизации необходимо, чтобы какая-то ощутимая, не исчезающе малая часть общества ее активно добивалась. "А что я могу сделать?" — этот вопрос часто приходится слышать, когда заходит речь о демократизации и о правах личности. В подавляющем большинстве случаев этот вопрос неискренен. Важно всерьез хотеть.