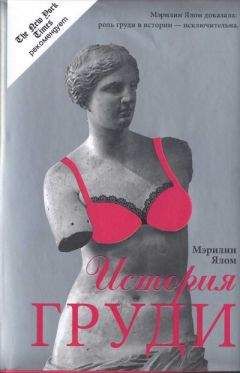Женщины-поэтессы не только прославляли грудное вскармливание и сексуальность, но и отдали дань безрадостной теме рака груди. Эта некогда запретная тема неожиданно вырвалась на свободу в необычных стихотворениях о маммограммах, мастэктомиях и протезах. В своем стихотворении «Обычная маммограмма» Линда Пэстэн (Linda Pastan) описывает чувство уязвимости, которое испытывает каждая женщина во время этой процедуры: «Мы ищем червя / в яблоке»[389]. Для Джоан Хэлперин (Joan Halperin) ужасным моментом стал «Диагноз»:
Третьего мая
наглый палец врача
уперся в опухоль,
которая, как он сказал, была в моей груди[390].
Во многих стихотворениях описаны ощущения женщин после мастэктомии, как в этих строчках Патрисии Гёдике (Patricia Goedicke) из стихотворения «Теперь осталась лишь одна из нас». Автор смотрит на себя в зеркало и спрашивает: «Кто эта кособокая незнакомка?»[391] Стихотворение Элис Дж. Дэвис (Alice J. Davis) «Мастэктомия» полностью передает тревогу поэтессы всего лишь одиннадцатью словами:
нечем
заглушить
биение моего сердца —
кожа натянута туго, словно на барабане[392].
Протезы стали источником вдохновения для некоторых произведений, исполненных горького юмора, как стихотворение Сэлли Аллен Макнолл (Sally Allen McNall) «Стихи женщине, наполнившей протез зерном для птиц, и другим»:
новая грудь моей мамы
стоила больше 100 долларов, и продавщица
в магазине была
так деловита
что можно было подумать, будто
все делают это[393].
Эти поэтессы сталкиваются с асимметрией тела, ясно осознают свою потерю и пытаются дорожить тем, что осталось.
Но поэтесса Одри Лорди (Audre Lorde) в своем страстном и гневном «Раковом дневнике» отказывается от любого искусственного утешения. Когда доброжелательная женщина из организации «Дотянись до выздоровления» пришла навестить ее в больнице «с очень жизнерадостными словами и заранее приготовленным пакетиком с… маленькой розовой подушечкой в форме груди», Лорди задумалась о том, «есть ли в этой организации чернокожие лесбиянки-феминистки». Ей отчаянно хотелось поговорить с кем-то, кто будет больше на нее похож. Она предполагает, что травма после мастэктомии и необходимые последующие решения не одинаковы для белой гетеросексуальной женщины и чернокожей лесбиянки. Перед тем как уйти из больницы, Лорди принимает печальное решение:
Я казалась чужой, неправильной и больной
самой себе, но почему-то
еще в большей степени самой собой, и потому
мне было легче принять то,
как я выгляжу с этой штукой, засунутой
в мою одежду. Ведь даже
самый искусный протез в мире не смог бы
переделать реальность или чувствовать
то, что чувствовала моя грудь. И теперь я
либо полюблю свое теперь одно
грудое тело, либо навсегда останусь
чужой себе самой[394].
Женщинам непросто было полюбить свое тело с одной грудью, полюбить свое тело вообще. Известно, что американские женщины, как правило, недовольны своим телом и ищут спасения в диетах, физических упражнениях и косметической хирургии. Наоми Вульф (Naomi Wolf) убедительно доказала в «Мифе красоты», что переделка лица и тела стала практически национальной религией[395]. Литературные и художественные произведения авторов-женщин часто стараются противостоять этой нереалистичной и нездоровой склонности. Стихотворения о раке груди, среди прочего, пытаются заставить нас полюбить наши далекие от совершенства тела такими, какие они есть.
Когда Адриенна Рич (Adrienne Rich) пишет о раке груди в стихотворении «Женщина, которая умерла в сорок лет», оно начинается так: «Твои груди /отрезаны», и специально оставленный пробел говорит об удаленных грудях, и этот пробел красноречивее любых слов. И поток нежности, который автор изливает на раны после двойной мастэктомии, выходит за рамки обычного сочувствия: «Я хочу коснуться пальцами/ того места, где были твои груди, / но мы никогда таких вещей не делаем»[396]. Это стихотворение для всех — лесбиянок и гетеросексуальных женщин, для обычных мужчин и мужчин-геев, — так как оно говорит о том, что происходит, когда человеческие существа видят раны друг друга и ласкают рубцы друг друга.
Очевидно, что у такой поэзии очень мало общего с традиционными мужскими восхвалениями груди. В ней правда показана под увеличительным стеклом, и в ней нет места для идеализирующего воображения. Какой бы болезненной она ни была, даже когда «тело говорит правду стремительным напором клеток» (Рич), это та правда, которую решились сказать современные женщины.
Так как читателей поэзии обычно немного, даже самые сильные стихи редко приобретают широкое политическое значение. Картины, напротив, быстро находят путь к публике и буквально вездесущи в нашем мире, где доминируют образы, в большей степени способные подпитывать социальные изменения. В наше время — и впервые в истории — женщины начали оказывать коллективное влияние через визуальное искусство. Они перестали быть моделями для мужчин, а взяли в руки кисти, фото- и кинокамеру и показали миру удивительные образы самих себя.
Цель многих таких творческих женщин состоит в том, чтобы «создать женское тело перед лицом патриархальных обычаев»[397]. Сознательно повернувшись спиной к мужским стандартам женской красоты, они искали в женщинах выражение женской чувствительности. Они нашли своих предков на картинах Мэри Кэссатт (Mary Cassatt) с изображением крепких кормящих матерей, которые выглядят так, словно действительно обнажили груди ради своих детей, а не ради похотливого зрителя. А в 1906 году Паула Модерсон-Бекер (Paula Modersohn-Becker) в своих обнаженных автопортретах шокировала современников реалистическим изображением себя во время беременности. Французская художница Сюзанна Валадон написала свои автопортреты с обнаженной грудью (1917, 1924 и 1931 годы), ставшие «уникальным свидетельством старения женщины»[398]. Эти художницы, каждая по-своему, бросили вызов столетиями существовавшим условностям, преуменьшая традиционный эротический посыл женской наготы. Некоторые из современных художниц черпали вдохновение в картинах американки Джорджии О’Киффи с ее цветами/вульвами и в удивительных аллегориях мексиканки Фриды Кало.
Фрида Кало (1907–1954) предложила публике революционное изображение тела вследствие влияния ее собственной жизни и искусства ее страны. Наиболее «говорящими» являются ее автопортреты, которые документально фиксируют необычную красоту лица художницы, красочный национальный костюм и неприкрытую правду о ее пострадавшем и страдающем теле. Дважды изуродованная — сначала полиомиелитом, а затем автомобильной аварией — Кало пишет себя такой, какой ей хотелось, чтобы ее видели: гордая и одинокая мученица, не желающая или не способная разрешить основные противоречия, отпечатавшиеся на теле калеки и одновременно женщины-творца. В картинах Кало «фирменные» густые сросшиеся брови вразлет, заметные усики над верхней губой контрастируют с изящными высокими скулами и длинными черными волосами. И точно так же ее страстные взаимоотношения с мужем и художником Диего Риверой как будто противоречат экзистенциальному одиночеству, которое она считала своей судьбой.
Но уникальное качество картин Фриды Кало, из-за которых они надолго остаются в памяти, это сюрреалистическая глубина ее воображения. Отдельное тело оказывается связанным с друзьями и любовниками, с флорой и фауной — с целой вселенной, похожей на сон паутиной ассоциаций. В картине «Моя кормилица и я» (1937) груди несут символическую ношу космических взаимосвязей (илл. 91). Кало изобразила себя в виде младенца с лицом взрослой женщины, который сосет грудь кормилицы-индианки. Темнокожая кормилица в маске доколумбовой эпохи очень массивна. Похожие на жемчужины капли молока сочатся из ее сосков. Левая грудь у губ ребенка написана как фантазия о том, что находится под кожей. Никаких анатомически верных деталей, вен или молочных протоков, а лишь растительный узор, которым украшали груди некоторых статуй доколумбовой эпохи[399]. Взаимосвязь между кормящей грудью и кормящей вселенной обозначена листвой вокруг этой пары. Один из листьев увеличен словно для того, чтобы зритель увидел его молочные протоки. А над кормилицей и ребенком небо с дождем из молочных капель.