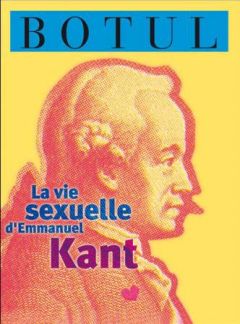Текст, который мы здесь впервые предоставляем вниманию общественности, относится к позднему творчеству Жана-Баптиста Ботюля (Jean-Baptist Botul), то есть к периоду его работы после 1937 г., о котором мы, в сущности, знаем довольно мало.
Речь идет о цикле из восьми докладов, которые Ж.-Б. Б. прочитал в Парагвае в мае 1946 г. (предположительно между 10-м и 15-м числом), то есть за год до своей смерти. Обстоятельства этих докладов можно назвать необычными. Потому что аудитория Ботюля состояла исключительно из немецких эмигрантов, которые основали колонию под названием “Нуэва-Кёнигсберг”. Это были почитатели Канта, которые вели жизнь в стиле кенигсбергского философа. Большая часть из них прибыла из этого города, который они покинули под натиском огня и железа в мае 1945 г., во время штурма Красной Армией тогда еще столицы Восточной Пруссии (позже переименованной в Калининград). После путешествия, которое было в равной степени как авантюристским, так и трагическим, — и к которому, к сожалению, еще ни один историк не проявил интереса — около ста семей нашли приют в Парагвае, где они, через полтораста лет после смерти Канта, основали колонию. Согласно свидетельствам тех немногих людей, которые посетили Нуэва-Кёнигсберг, эти немцы одевались, как Кант, ели и спали как он, и ежедневно после обеда совершали ту самую легендарную прогулку — мимо реконструированных фасадов, напоминающих улицы Кёнигсберга. Возможно, Ботюль узнал об этой трансцендентальной общине во время своего пребывания в Аргентине.1 Как эти странные эмигранты, которых иногда называют “кантианскими фундаменталистами”, приняли открытие Ботюлем сексуальной жизни Канта, не известно.
Имел ли Ботюль возможность завершить свой цикл лекций? Для выживания Нуэва-Кёнигсберг предмет этого доклада имел решающее значение. Суть дела в том, что, с одной стороны, хотя сам Кант прожил жизнь совершенным девственником, каждое неокантианское общество, которое подчиняет себя этому правилу воздержания, конечно же, обречено на исчезновение, то есть, на естественное вымирание. Но с другой стороны, когда докладчик открывает существование у Канта сексуальной жизни, он неизбежно задевает легенду об Учителе и сталкивается с упреками в ревизионизме. Ботюль смело обозначил эту дилемму. Помимо непосредственно присутствующей аудитории, Франция и, в особенности, Сорбонна также являлись для него источником беспокойства. И не без оснований: те немногие академические философы, которые держали в руках этот текст, не скрывали своего недоумения и негодования. Виктор Дельбос, авторитетный специалист по Канту, профессор Сорбонны, бросил ему в своем письме упрек в том, что тот “порочит репутацию величайшего гения человечества”, и объявил о разрыве отношений со своим бывшим учеником.
В то время в Сорбонне неокантианство было весьма распространенным, чтобы не сказать господствующим, течением. Ни марксизм, ни экзистенциализм, ни Хайдеггер, ни психоанализ не пользовались в то время правом гражданства на философском факультете. Кант предоставлял университету идеальный образец мысли, точку схождения, в которой сливались самые различные нюансы республиканского и антиклерикального рационализма. “Я расшатал гиганта мысли, который, упав, своим весом придавил меня насмерть”, сетовал Ботюль своей подруге Фернанде Б. в письме, в котором он убеждал ее в значимости своего исследования. Далее он писал: “Для меня сексуальная жизнь Канта представляет собой один из самых трудноразрешимых вопросов западноевропейской метафизики”.2 Той же особе он, год спустя, доверил мысль, что “сексуальность Канта [— это] королевская дорога, которая ведет к познанию кантианства”, и что именно этот путь дал ему возможность прочитать “Критику чистого разума” как “драму и автобиографию”. Досадно, что в Университете этот новый способ прочтения, который означает переворот в нашем представлении о кантианстве, так мало принимался к сведению. Университет прошел мимо Ботюля с презрительным молчанием, которое сегодня стоит нарушить. Но это уже другая история, которая связана с вытеснением ботулизма в современной философии3.
А сейчас пора дать слово самому тексту — этому источнику смущения. Аналитические способности и мужество Ботюля достигают здесь законченной формы. Во времена античности полагали, что самые выдающиеся личности, став звездой, обретают бессмертие, чтобы светить в вечности. Стараниями Ботюля мы можем отнести это и к философу из Кёнигсберга, только, пожалуй, после чтения этой истории сексуальной жизни звезда Канта предстанет нам не в виде Солнца, а в виде наводящей страх черной дыры.
Замечание издателяЭти лекции были написаны и прочитаны на языке жителей Нуэва-Кёнигсберг, то есть на немецком. В последующем текст переводился на испанский, а позднее и на английский, но обе эти версии до сих пор не найдены. Собственно говоря, следует говорить о двух редакциях. Первая редакция, которую называют “аргентинской” или “собственно ботюлевской”, возникла (предположительно в Буэнос-Айресе) до того, как серия докладов была прочитана. Вторая, так называемая “парагвайская”, редакция фактически состоит из текста прочитанных лекций, который транскрибировался супругой доктора Боровски. Между этими двумя редакциями имеются заметные различия. Мы решили опубликовать “аргентинскую” редакцию и при этом отметить те пассажи, которые докладчик намеренно опустил. Отсутствие слов или целых пассажей будет обозначаться так: <...>. Таким образом, мы сохраним, насколько это возможно, характер устного доклада. Примечания написаны издателем.
Выражение благодарностиМы выражаем свою искреннюю благодарность Обществу друзей Жана-Батиста Ботюля за согласие провести с нами обстоятельную консультацию по наследию философа
Достопочтенные дамы и господа!
Должен признаться, что когда господин доктор Боровски оказал мне честь, пригласив меня в Ваше общество, я долго колебался. Я не специалист по Канту. Такой огромный труд даже пугает меня — это джунгли, в которые мало кто может осмелиться войти. Некоторые все-таки пустились в эту авантюру, и c тех пор их больше никто не видел (смех в зале). Тем более я сомневался, поскольку у меня было ощущение, что, соглашаясь поговорить о сексуальной жизни Иммануила Канта, я как будто совершаю святотатство. Какой ужас! Интимная жизнь философа! Подобные биографические вопросы рассматриваются неохотно, и это совершенно нормально, в тех случаях, когда безрассудно пытаются с помощью биографии мыслителя объяснить его творчество. Однако, я здесь этого делать не собираюсь. Но представляет ли вообще жизнь философа какой-нибудь интерес для философии? Мои профессора в Сорбонне хором отвечали “Нет!” Так меня и учили. Все то время, пока я готовил этот доклад, в глубине души я слышал голос, который укоризненно спрашивал меня: “Как ты можешь говорить о сексуальной жизни Иммануила Канта? Как ты осмелился взяться за этот огромный труд?”
Но какая-то темная сила все-таки заставила меня принять ваше приглашение, и я был вынужден прочитать все — впрочем, не очень многочисленные — работы о жизни мудреца из Кёнигсберга. При этом я пришел к удивительному выводу, которым я с удовольствием поделюсь с Вами. Но прежде чем начать, мне хотелось бы подчеркнуть, что мои заключения, какими бы они не были шокирующими и неприятными, ничуть не умаляют того уважения, чтобы не сказать почтения, с которым я отношусь к Иммануилу Канту, который остается для меня неподражаемым образцом философа. Я далек от того, чтобы делать из сексуальности Канта тему для анекдотов и всякого рода двусмысленностей, нет, это — королевская дорога, ведущая к пониманию кантианства. Давайте же перейдем к теме, ибо как сказал поэт: “Вечер врывается внутрь, и большой белый ягуар прокрадывается в наши сны”.4
* * *
Образ, который себе многие составили о Канте, это образ некоего pиretranquille5 философии. Мы знаем о том, как строго был распланирован его временной распорядок, знаем о банальности его оседлой жизни. Он едва ли покидал свой любимый Кёнигсберг — факт невероятный для того времени, когда все великие философы — Вольтер, Руссо, Дидро, Юм — были еще и великими путешественниками, европейцами, испытывающими чувство любопытства к своему континенту. Кант же оставался в Кёнигсберге. Там он родился, там он работал, там же он и умер. Самые большие немецкие университеты того времени — Галле, Йена, Эрланген, Митау — предлагали ему кафедры. И всякий раз Кант отвечал отказом. У него были свои привычки. Каждый день в без пяти пять его будил слуга Лампе, и когда било пять часов, он садился за стол, выпивал одну или две чашки чая, выкуривал трубку и готовил лекции, которые он вел в течение всей первой половины дня — пока стрелка часов не показывала время без четверти час. Затем он выпивал бокал венгерского вина и в час садился за стол. После обеда он совершал прогулку до крепости Фридрихсбург, причем всегда шел по одному и тому же маршруту, который соседи окрестили “Философской тропой”. Можно было узнать время и без колокольного боя: мимо шел философ... После чтения газеты — в шесть часов — он отправлялся в свою рабочую комнату (он заботился о том, чтобы в ней постоянно поддерживалась температура в 15 градусов), и снова принимался за работу, причем всегда садился так, чтобы можно было видеть башню старого замка. Если разросшиеся деревья препятствовали ему наслаждаться этим видом, это мешало его размышлениям. Около десяти часов, через четверть часа после того, как он заканчивал свои размышления, он шел в спальню, окно которой в течение всего года оставалось закрытым, раздевался и ложился в постель, причем этот процесс сопровождался рядом вполне определенных манипуляций, благодаря которым он мог всю ночь напролет оставаться полностью закутанным. Если же ночью ему необходимо было выйти, он ориентировался по тросу, протянутому между кроватью и уборной, чтобы не оступиться в темноте.