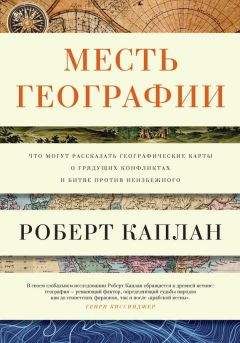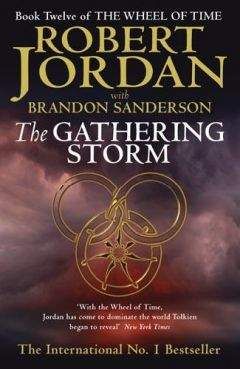Человеческая природа, которая, по Фукидиду, является совокупностью страха, стремления к барышу и жажды славы, приводит к конфликтам и насилию. А поскольку реалисты, подобно Моргентау, ожидают конфликта и осознают, что его не избежать, они в меньшей степени, чем идеалисты, склонны слишком остро реагировать на него. Они понимают, что стремление властвовать и возвышаться является природной составляющей всех взаимодействий между людьми, а особенно взаимодействий между государствами. Моргентау цитирует американского политика XIX в. Джона Рэндолфа из Роанока, который утверждает, что власть можно ограничить только другой властью. Следовательно, реалисты не верят, что сами по себе международные организации необходимы для поддержания мира, ибо те являются отражением баланса сил между отдельными государствами-членами, который в конечном итоге и определяет, чему быть — войне или миру. И все же, согласно Моргентау, сама система политического равновесия между государствами, по сути, неустойчива: ведь каждое государство (поскольку беспокоится, не ошиблось ли оно в оценке баланса сил) всегда будет стремиться восполнить ущерб от воспринимаемых ошибок, постоянно нацеливаясь на наращивание преимущества. Именно это и стало причиной Первой мировой войны, когда Австрия Габсбургов, Германия кайзера Вильгельма I и царская Россия — все пытались склонить баланс сил на свою сторону и серьезно просчитались. Моргентау пишет, что в конечном итоге только благодаря существованию общечеловеческого нравственного сознания — совести, которая рассматривает войну как «катастрофу», а не как естественное продолжение международной политики, — ограничивается количество войн.[44]
После того насилия, которое имело место в Ираке в 2003–2007 гг., мы все заявляем, что стали реалистами, или убеждаем себя, что таковыми являемся. Но, учитывая определение реализма, которое предложил Моргентау, так ли это? Например, все ли, кто выступал против войны в Ираке с позиций реализма, также считают, что нет непосредственной связи между демократией и моралью? А Моргентау, который выступал против вьетнамской войны как с позиций нравственности, так и с позиции национальных интересов, и есть тот самый реалист, который нас всех устраивает. Ученый-интеллектуал, он никогда не жаждал власти и высокого положения в обществе в отличие от других реалистов типа Генри Киссинджера или Брента Скоукрофта. Более того, его сдержанному и едва ли не однообразному стилю изложения не хватает остроты Киссинджера или Самюэля Хантингтона. Проблема в том, и это несомненно, что реализм, даже в версии Моргентау, неудобен для политиков. Реалисты понимают, что в основе международных отношений лежат более приземленные и конкретные реалии, чем те, которые находятся в основе внутренней политики. В то время как внутренняя политика регулируется законами, поскольку легитимная власть имеет монополию на применение силы, мир как целое все еще живет по законам природы, где нет гоббсовского Левиафана, который карал бы за несправедливость.[45]
Действительно, под внешним лоском цивилизации сокрыт темный мир человеческих страстей, и, таким образом, центральным вопросом в международной политике для реалистов стоит следующий: Кто что кому может сделать?.[46]
«Реализм чужд американской традиции, — однажды сказал мне Эшли Теллис, старший научный сотрудник фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне. — Он осознанно аморален, сфокусирован на интересах, а не на ценностях в мире, где мораль девальвируется. Но реализм не умрет никогда, ведь он является отражением фактической деятельности государств за ширмой риторики, на словах воспевающей демократические и общечеловеческие ценности».
Для реалистов порядок важнее свободы. Для них свобода приобретает значение только после того, как установлен порядок. В Ираке порядок, даже тоталитарного толка, оказался более гуманным, чем беспорядок, который сопутствовал свержению режима. А поскольку мировое правительство всегда будет труднодостижимым, а человечество никогда не договорится о фундаментальных принципах социального блага, мир обречен на то, чтоб им руководили различные режимы, а в некоторых местах сохранялись племенные или этнические уклады. Реалисты еще со времен Древней Греции и Древнего Китая вплоть до французского социолога середины XX в. Раймона Арона и его испанского современника Хосе Ортега-и-Гассета считали, что война естественно присуща человечеству, которое разделено на государства и группы.[47]
Действительно, суверенитет и альянсы не возникают просто так, они вырастают из взаимных различий. В то время как сторонники глобализации акцентируют внимание на том, что нас объединяет, реалисты подчеркивают то, что нас разделяет.
И вот мы переходим к географической карте, которая представляет собой пространственное представление о разделении человечества и является предметом трудов реалистов прежде всего. Карты не всегда говорят правду. Они часто настолько же субъективны, насколько субъективным может быть фрагмент литературной прозы. Европейские названия для обширных просторов в Африке, по утверждению покойного британского географа, картографа и историка картографии Джона Харли, показывают, как картография может быть «дискурсом власти», в данном случае латентного империализма. На меркаторской проекции Европа кажется больше, чем есть на самом деле. Уже то, что каждая страна на карте ярко окрашена одним цветом, предполагает, что государственная власть имеет одинаковый контроль на всей территории страны — от центра и до самых окраин, что не всегда соответствует истине.[48] Карты материалистичны, а следовательно, в нравственном отношении нейтральны. Исторически они скорее часть прусского образовательного пространства, чем британского.[49] Другими словами, карты могут быть опасным инструментом. И все же без них невозможно понимание мировой политики. «На относительно стабильном фундаменте географии строится пирамида национального государства», — пишет Моргентау.[50] Ибо, по существу, реализм опирается на признание самой неудобной, самой откровенной и самой детерминистической из возможных истин — географической правды.
География — фон для человеческой истории. Несмотря на искажения в картографии, география может раскрывать далеко идущие намерения правительств, так же как протоколы их тайных совещаний.[51] Положение государства на карте — первое, что является определяющим, больше чем его политическая система. «Карта, — объясняет Хэлфорд Маккиндер, — с одного взгляда дает представление о целом ряде обобщений». География объединяет естественные и гуманитарные науки, связывая историю, культуру с природными факторами, которыми специалисты в области гуманитарных наук частенько пренебрегают.[52] И хотя изучение любой карты может быть бесконечно интересным и по-своему очаровывающим, с географией, как и с реализмом в целом, трудно согласиться в полной мере. Ведь карты опровергают само понятие равенства и единства человечества, так как напоминают нам о разных природных условиях и связанным с ними неравенством людей, что во многих отношениях разобщают народы, приводя к конфликтам, на которых, собственно, и основан реалистический подход.
В XVIII–XIX вв., прежде чем политология появилась как отдельная научная дисциплина, география была уважаемой, пусть и не вполне формализованной наукой. В этой дисциплине политика, культура и экономика очень часто постигались и воспринимались с помощью рельефных карт. Согласно материалистической логике, горы и племена значат гораздо больше, чем мир теоретических идей. Или даже так, горы и люди, выросшие там, представляют собой реальность первого порядка, а идеи, какими бы реальными они ни казались, — всего лишь второго порядка.
Я убежден, что отдавая предпочтение реализму в самый разгар войны в Ираке, как бы трудно нам это ни далось — и как бы кратковременно это ни было, — мы на самом деле предпочли, сами того не осознавая, географию. Может, и не в ее явно империалистическом «прусском» понимании слова, а в менее жестком викторианском или эдвардианском смыслах. Именно местью географии можно назвать кульминацию второго этапа исторической эпохи, наступившей после окончания холодной войны. Этот этап последовал за поражением географии ввиду полного превосходства американской авиации в воздухе над зонами конфликта и триумфа гуманитарных интервенций, которые были характерны для конца первого этапа истории после завершения холодной войны. Таким образом, нас отбросило назад, на базовый уровень человеческого существования, где нам пришлось согласиться, что вместо постоянного улучшения мира, что ранее рисовалось в нашем воображении, мир, как и раньше, является ареной борьбы за выживание среди суровых лишений, которыми нас наградила география в таких местах, как Месопотамия и Афганистан.