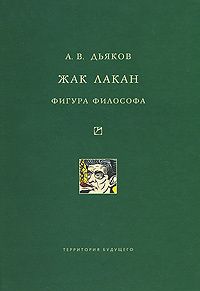Чтобы понять, что острота, как явление в области означающего, собой представляет, необходимо выделить ее стороны, особенности, связи — всю ее подноготную, одним словом, — причем сделать это следует на уровне означающего. Уровень проработки остроты как означающей продукции настолько высок, что Фрейд специально остановился на ней в качестве одного из примеров бессознательного образования. Именно это привлекает к ней и наше внимание.
Насколько это внимание важно, вы, наверное, уже поняли, убедившись, что оно позволяет нам в дальнейшем строго проанализировать уже такое чисто психопатологическое по своей природе явление, как оговорка.
13 ноября 1957 года
От Канта к Якобсону
То, что в остроте вытеснено
Забвение имени, неудавшаяся метафора
Зов означающего
Девушка и граф
Итак, через ворота остроты мы подошли, наконец, к предмету нашего курса вплотную.
В прошлый раз мы начали анализ первого включенного Фрейдом в свою книгу примера — слова фамилпионъярно. Слово это вложено Генрихом Гейне в уста Гирша Гиацинта, созданного его поэтическим воображением персонажа — персонажа необычайно многозначительного. То, что пример свой Фрейд черпает из художественного вымысла, тоже произошло отнюдь не случайно. Неудивительно, что и мы именно этот пример сочли наиболее подходящим, чтобы доказать то, что мы собирались здесь доказать.
Анализ лежащего в основе остроты психического явления привел нас, как вы, без сомнения, уже поняли, на уровень артикуляции означающих, которая, сколь бы интересна она — по крайней мере, я на это надеюсь, — многим из вас ни казалась, способна, тем не менее, — мне нетрудно это себе представить — произвести впечатление какой-то бестолковщины. Но то самое, что здесь поражает и сбивает с толку, как раз и подталкивает к пересмотру аналитического опыта, который мы с вами собираемся теперь предпринять, — пересмотра, касающегося не только места субъекта, но даже, до известной степени, самого существования его.
Один из людей, заведомо неплохо осведомленный как о самой проблеме, так и о том вкладе, который я пытаюсь в решение ее внести, обратился ко мне со следующим вопросом: "Хорошо, но во что же тогда субъект обращается? Где нам его искать.'"
Ответить было нетрудно. Поскольку задан был этот вопрос во Французском философском обществе, на заседании которого я выступал, и исходил от философа, в ответ мне очень хотелось сказать: "Позвольте переадресовать лтот вопрос вам самим. Здесь я даю слово философам — нельзя л/се, в конце концов, перекладывать всю работу намой плечи".
Конечно же, фрейдовский опыт заставляет понятие субъекта пересмотреть. Ничего удивительного в этом нет. Но неужели, с другой стороны, после всего того существенного, что было Фрейдом в этом отношении высказано, должны мы все еще терпеть зрелище того, как лучшие умы, и аналитики в том числе, держатся понятия субъекта, воплощенного теперь, при этом способе мыслить, просто-напросто во фрейдовском эго, собственном я, еще крепче? Разве не знаменует это положение дел возврат к тому, что в вопросе о субъекте можно рассматривать как набор грамматических недоразумений?
Конечно же, никакие данные аналитического опыта не позволяют, не дают оснований идентифицировать собственное я со способностью синтеза. Да стоит ли вообще в данном случае к аналитическому опыту обращаться? Простое и непредвзятое рассмотрение того, что представляет собою жизнь каждого из нас, обнаруживает, что пресловутая способность синтеза сплошь и рядом оказывается посрамленной. Положа руку на сердце и оставив в стороне выдумки, нельзя не признать, что нет ничего более знакомого нам, нежели ясное ощущение, что поступки наши не только в мотивах своих ни с чем не сообразны, но в глубине своей не мотивированы вовсе и от нас самих принципиально отчуждены. Фрейд выработал представление о субъекте, который функционирует где-то по ту сторону. Говоря об этом субъекте внутри нас, обнаружить который оказывается так трудно, он демонстрирует нам его скрытые пружины и его деятельность. И в том, что он говорит, нам следовало бы особое внимание обратить на следующее: субъект этот, который во все то, что на уровне повседневного нашего опыта предстает нам как глубокая раздвоенность, околдованность, полная отчужденность от мотивов собственных поступков, вносит некое тайное и сокровенное единство, — субъект этот является другим.
Что же этот субъект-другой собой представляет? Может быть, это, как уже предполагали некоторые, своего рода двойник, некое дурное Я, скрывающее в себе, и вправду, множество устремлений самого поразительного свойства? Или просто другое Я? Или, как мои собственные слова дали некоторым основание полагать, Я истинное? О чем именно идет речь? Быть может, это просто-напросто подкладка? Просто-напросто другое Я, о строении которого мы можем составить себе представление по аналогии с тем Я, с которым имеем мы дело в опыте? Вот вопрос — и вот почему мы пытаемся в этом году решить его, начав с уровня образований бессознательного и дав нашему курсу соответствующее заглавие.
Конечно же, на вопрос этот уже напрашивается ответ — нет, субъект устроен иначе, нежели Я, с которым мы имеем дело в опыте. То, что нам предстает в этом субъекте, повинуется собственным законам. Образования его имеют не только свой собственный стиль, но и свою собственную структуру. Изучая и демонстрируя эту структуру на уровне неврозов, на уровне симптомов, на уровне сновидений, на уровне непроизвольных промахов, на уровне остроты, Фрейд убеждается, что она повсюду в своем своеобразии одна и та же. Это и есть главный его аргумент в пользу того, что острота представляет собой проявление бессознательного. В этом и есть вся суть того, что он говорит нам по поводу остроты, — и именно поэтому выбрал я ее в качестве отправной точки.
Острота построена и организована по тем же самым законам, которые мы обнаруживаем в сновидении. Вновь узнавая в остроте эти законы, Фрейд перечисляет их и устанавливает между ними связь. Это закон сгущения, Verdichtung, закон смещения, Verschiebung, и еще один, третий элемент, который к этому списку примыкает и который я в конце своей статьи называл, пытаясь передать немецкое RucksichtaufDarstellung, оглядкой на условия сценической постановки. Назвать их, однако, дело десятое. Ключевым моментом фрейдовского анализа является само признание того, что структурные законы эти являются общими. Благодаря этому становится возможным утверждать, что тот или иной процесс втянут, как выражается Фрейд, в бессознательное. Он построен по законам этого типа. Когда мы говорим о бессознательном, мы имеемв виду именно это.
Однако на уровне того, чему учу вас я, к этому приходится добавить нечто еще: оказывается, что теперь, после Фрейда, у нас появилась возможность установить, что эта характерная для бессознательного структура, то самое, что позволяет нам опознать то или иное явление как принадлежащее к образованиям бессознательного, без остатка укладывается в то, в чем лингвистический анализ позволяет усмотреть главные способы образования смысла как продукта, порождаемого путем комбинирования означающих.
Обстоятельство тем более показательное, чем более оно представляется удивительным.
В ходе развития лингвистической науки понятие означающего элемента наполнилось смыслом в тот конкретный момент, когда окончательно выкристаллизовалось в ней представление о фонеме. Понятие это позволяет вычленить в языке элементарный уровень, определяемый двояко — как диахроническая цепочка, во первых, и, внутри этой цепочки, как постоянная возможность замещения синхронного плана, во вторых. Одновременно оно позволяет нам разглядеть на уровне функционирования означающих независимую властную инстанцию, которую мы и сможем рассматривать как место, где порождается, некоторым образом, то, что именуется смыслом. Концепция эта, сама по себе чрезвычайно насыщенная психологическими импликациями, в дальнейшей разработке вряд ли нуждается, так как ее отлично дополняет тот материал, который в точке состыковки поля лингвистики с областью анализа как такового успел нам оставить Фрейд. Ведь эти психологические эффекты, эти эффекты порождения смысла как раз и представляют собой то самое, что рассматривается Фрейдом как образования бессознательного.
И вот теперь мы можем понять и оценить в отношении места человека нечто такое, что до сих пор всегда упускалось из виду. Совершенно очевиден тот факт, что для человека существует множество объектов, по сравнению с биологическими объектами куда более разнородных, разнообразных и многочисленных. Существование каждого живого организма предполагает наличие в мире своего коррелята — совокупности объектов, носящих совершенно определенный характер, отличающихся определенным стилем. Но у человека совокупность эта отличается сверхприбыльннм, поистине роскошным многообразием. Более того, человеческий объект, мир человеческих объектов, нельзя понять, рассматривая его как объект чисто биологический. И при таких обстоятельствах факт этот неизбежно встает в тесную, нерасторжимую связь с порабощением, подвластностью человеческого существа явлению языка.