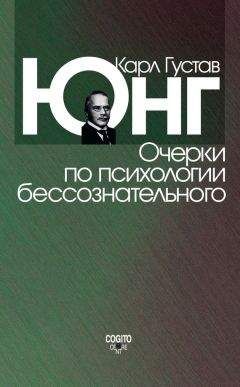к судьбе другого и всякий является героем своей собственной драмы, но вместе с тем и участником драмы чужой, это – нечто такое, что превосходит всякое наше понимание и может быть мыслимо только под условием дивной
harmoniae praestabilitae [558]». Для Шопенгауэра «субъект великого жизненного сновидения в известном смысле лишь один»: это трансцендентальная Воля,
prima causa [559], из которой все каузальные цепочки расходятся, будто меридианы от полюсов, и благодаря кругам параллелей они вступают друг с другом в значимые отношения совпадения [560]. Шопенгауэр верил в абсолютный детерминизм природных процессов и в их первопричину. Но нет никаких доказательств правильности для обоих предположений. Первопричина – это философская мифологема, достоверная лишь в форме старинного парадокса Eν τὸ πᾶν, единовременного единства и многообразия. Утверждение, будто некие точки на каузальных линиях (меридианах) суть «значимые совпадения», обоснованно только в том случае, если первопричина действительно одно целое. Но если она многообразна, что не менее вероятно, то вся теория Шопенгауэра рушится, даже если не принимать во внимание тот факт, который мы осознали недавно и который гласит, что закон природы обладает всего-навсего статистической ценностью и, следовательно, оставляет лазейку для индетерминизма. Ни философские размышления, ни опыт не предъявляют нам свидетельств регулярного возникновения двух вышеназванных типов связи, когда одно и то же есть одновременно субъект и объект. Шопенгауэр мыслил и писал во времена полного господства каузальности как априорной категории и потому был вынужден объяснять «значимые совпадения». Но, как мы уже видели, это объяснение приобретает толику убедительности, лишь если прибегнуть к другому, столь же произвольному допущению о цельности первопричины. Из этого предположения неизбежно следует, что каждая точка данного меридиана находится в отношении «значимого совпадения» со всеми другими точками того же градуса широты. Но это умозаключение выходит далеко за рамки эмпирически возможного, поскольку предполагает регулярность и систематичность появления «значимых совпадений», следовательно, их существование вообще не нуждается в доказательствах либо доказывается очень и очень просто. Приводимые Шопенгауэром примеры так же малоубедительны, как и все остальные. Тем не менее отдадим ему должное: он подметил эту проблему и понял невозможность легкого и поспешного ее решения
ad hoc [561]. Поскольку здесь все так или иначе сводится к основам эпистемологии, Шопенгауэр, согласно общему направлению своих размышлений, выводил проблему из трансцендентальной предпосылки, Воли, которая создает жизнь и бытие на всех уровнях, причем модулирует каждый уровень таким образом, что все они пребывают в гармонии со своими параллелями и подготавливают грядущие события, играя роль Судьбы или Провидения.
[829] В противоположность пессимизму, который вообще присущ Шопенгауэру, это утверждение звучит довольно позитивно и оптимистично, что сегодня вряд ли может вызвать одобрение. Столетие, исполненное невзгод и стремительного бега времени, отделяет нас от той поры, еще близкой по духу средневековью, когда философский разум верил, что возможно выдвигать предположения, которые не могут быть доказаны эмпирически. В эту пору широты взглядов никому не приходила мысль, что границы познания природы пролегают именно там, где строителям «дорог науки» выпало устроить привал. Поэтому Шопенгауэр, с подобающим философским предвидением, открыл для размышлений область, особую феноменологию которой он не в состоянии был понять, пускай более или менее верно набросал ее общие очертания. Он признавал, что астрология и прочие интуитивные методы толкования судьбы, с их omina и praesagia [562], имеют общий знаменатель, который и желал отыскать при помощи «трансцендентальных рассуждений». Также он верно догадывался, что налицо проблема принципа первого порядка, чего не осознавали ни предшественники, ни те, кто после Шопенгауэра тщетно похвалялся какими-то бесполезными способами передачи энергии или, ради своего удобства, попросту отмахивался от проблемы в целом, избавляя себя от необходимости решать трудную задачу [563]. Попытка Шопенгауэра тем более примечательна, что он предпринял ее в эпоху, когда стремительное развитие естественных наук убедило всех, что одна только каузальность должна считаться истинным объяснительным принципом. Шопенгаэур же, отказываясь игнорировать весь тот опыт, который упрямо не желал укладываться в жесткие рамки каузальности, захотел, как мы видели, поместить этот опыт в свою детерминистскую картину мироздания. Тем самым ему пришлось насильно втискивать в каузальную схему понятия предвозвещения, соотнесенности и предустановленной гармонии, которые, олицетворяя универсальный миропорядок (сосуществующий с каузальным), лежат в основе человеческих объяснений природы; он полагал – совершенно справедливо, – что научный взгляд на мир с опорой на законы природы (в ценности такого взгляда он не сомневался) лишен какой-то характеристики, важной для классического и средневекового мировоззрения (а также для интуитивного восприятия современного человека).
[830] Обилие фактов, собранных Гарни, Майерсом и Подмором [564], воодушевило трех других исследователей – Дарье [565], Рише [566] и Фламмариона [567], которые подступились к проблеме со стороны подсчета вероятности. Дарье вывел вероятность 1:4 114 545 для телепатического предчувствия смерти, из чего следовало, что объяснение такого предупреждения как «случайного» в четыре с лишним миллиона раз менее правдоподобно, чем «телепатическое», аказуальное «значимое совпадение». Астроном Фламмарион рассчитал вероятность хорошо известного случая «призраков живых людей» как 1:804 622 222 [568]. Еще он первым увязал прочие подозрительные происшествия с общим интересом к феноменам, имеющим отношение к смерти. Так, он сообщал [569], что при работе над книгой об атмосфере, как раз когда он писал главу о силе ветра, неожиданный порыв сдул со стола все бумаги и вынес их в окно. В качестве примера тройного совпадения Фламмарион приводил поучительную историю монсеньера де Фонжибу и сливового пирога [570]. Тот факт, что Фламмарион упоминал все эти совпадения, обсуждая явление телепатии, доказывает, что он по наитию, сам того не осознавая, предполагал наличие в мире некоего всеобъемлющего принципа.
[831] Писатель Вильгельм фон Штольц [571] собрал немало историй о странных способах, какими утерянные или украденные предметы возвращались к своим хозяевам. В частности, есть история о женщине, фотографировавшей своего маленького сына в Шварцвальде. Пленку она оставила в Страсбурге на проявку. Но началась война (1914), женщина не смогла забрать фото и смирилась с этой потерей. В 1916 году во Франкфурте она купила пленку, чтобы сфотографировать свою дочь, которую успела родить за прошедшее время. Когда пленку проявили, выяснилось, что та уже использовалась, и под снимком дочери обнаружилась фотография сына, сделанная в 1914 году! Старая пленка не дождалась проявки и каким-то образом вновь поступила в продажу вместе с новыми. Автор ожидаемо делает вывод, что все указывает на «взаимное притяжение связанных друг с другом объектов», на «избирательную близость». Он предполагает, что эти события напоминают сновидения «более обширного и более понимающего сознания, которое для нас непознаваемо».
[832] С психологической точки зрения проблему случайности изучал