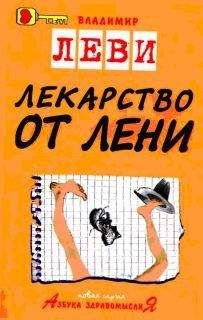Следующим утром, снова придя к ней, я узнал, что ночью она ушла из палаты встречать сына...
Тысячу раз я проклинал себя за то, что тогда прочитал ей это письмо. Тысячу раз, возвращаясь к этим дням, я приходил к выводу, что все-таки нельзя было поступить иначе. Не знаю, оно ли ускорило течение болезни, но именно после него процесс пошел по какой-то вселяющей ужас экспоненте. И вместе с тем, в оставшиеся ей дни не было у нее большей радости, чем это известие. Впрочем, даже не так: слова сына отозвались в ней острым приступом какогото пронзительного счастья. Я знал свою жену. Да она ничего и не скрывала...
На выходные ходячих больных отпускали домой, я уже говорил об этом, и в ее палате оставались лишь две прикованные к постели старушки. Все что они могли - это кричать... Ее вернули, она еще не успела уйти на мороз... Мне сразу же вспомнился тот, вероятно, обреченный на смерть человек...
Она впадала в сон, просыпаясь через несколько минут, она каждый раз принималась выпытывать, какое сегодня число... Она считала дни... Счет дней не изменялся, и это сердило ее; уже к моему приходу она успела разобидеться на обеих женщин, которые, как ей казалось, обманывают ее... Но безжалостное к ней время как будто остановилось навсегда...
Те дни еще сохраняли какую-то надежду, больше того, в четверг будет снято подозрение на опухоль, утром в пятницу, во время обследования на компьютерном томографе в диагностическом центре, куда за большие деньги обездвиженную снотворным я повезу ее через полгорода, мне скажут, что вообще ничего страшного нет. (На меня наденут тяжелый фартук, предохраняющий от какого-то излучения и я долго буду стоять у самого жерла томографа, чтобы удерживать руками ее мятущуюся голову; еще до конца процедуры ко мне выбежит счастливая медсестра и шепнет, что, слава Богу, у нее все в порядке.) Меня уже почти убедят в том, что самое большее через две недели интенсивной терапии она начнет поправляться... На деле с каждым днем ей делалось все хуже и хуже, но только сегодня, оглядываясь назад, я отчетливо вижу то, что не хотел замечать тогда.
Между тем, уже с середины недели все то, что когда-то составляло весь многоцветный ее мир, стало отходить куда-то вдаль и постепенно теряя очертания, как бы в тумане, растворяться там. Границы контролируемой ее угасающим сознанием действительности начали плавно сужаться; она уже не слышала общих разговоров палаты, ее взгляд уже не останавливался на отдаленном, она уже не говорила о будущем, казалось, она забыла даже о сыне; и вот наконец единственной реальностью для нее осталась даже не вся эта большая переполненная больными и вечными посетителями комната, а лишь не занавешенное окно, у которого она лежала, сплошь заставленная посудой и нехитрыми больничными принадлежностями тумбочка - и мы, весь день сменяющие друг друга у ее постели: я и ее мать. Весь внешний мир окончательно замкнулся для нее в этом маленьком уютном круге...
(Этот вдруг сузившийся до предела круг материального еще сумеет однажды прорваться: она еще дождется сына, успеет узнать его и пережить такой же острый приступ счастья. Это будет в пятницу, вечером; каким-то таинственным наитием она, несмотря на дополнительные дозы снотворного уже в диагностическом центре, вдруг проснется и поднимет голову в тот самый момент, когда мы с ним будем входить в палату... Об этом чуде материнства еще долгое время будут говорить во всех палатах... Только что сошедший с поезда сын останется с ней на всю ночь, и на следующую... Но уже в субботу она будет реагировать на него почти как на постороннего. А утром в понедельник я переодену ее во все чистое, и дюжий студент-санитар, чтобы не путаться с носилками в плотно заставленной кроватями палате, на руках отнесет ее на последний консилиум, через некоторое время, так же на руках, ее отнесут обратно, затем вызовут меня... Через два часа уже в бессознательном состоянии с высокой температурой она будет переведена в реанимационное отделение, откуда уже никогда больше не выйдет. Больше месяца она пролежит в реанимации. Только один раз наступит просветление, вновь появится уже угасшая надежда; к ней пустят сына, она сразу узнает его, попытается что-то сказать, но сумеет произнести лишь первый звук его имени. Это будет последняя радость в ее жизни, может быть, даже последнее, что она вообще видела... Я еще несколько раз буду стоять у ее изголовья, гладить ее сбившиеся давно немытые волосы, что-то шептать ей, но она уже ни разу не отзовется... Слышала ли она меня?..)
Простота больничных нравов давно уже дошла до того, что в палату прямо в уличной одежде и обуви можно было проходить в любое время, ни у кого не спрашивая разрешения. И я был с ней все дни, когда угасало ее сознание. Я видел, как осязаемый мир внешней реальности постепенно растворялся где-то за пределами }rncn маленького островка Вселенной, все еще обнимаемого ею, но лицо ее удивительно светлело... Я ясно видел, что где-то там, в потаенной глубине ее уже отрешенной от всего суетного души тихо вершится какая-то сосредоточенная работа... Она уже совсем не механически, но с какой-то глубокой серьезностью, каждый раз притихая на минуту, как бы внимательно вслушиваясь в то, что происходило глубоко внутри нее, отвечала на мои: "Ну, как ты?", и я верил, что ей действительно было тепло и хорошо здесь в этом уютно сомкнувшемся вокруг нее мире. Но там, в сокровенном, незримо вершилось что-то очень большое и важное... Возвращаясь из забытья, она произносила какие-то не всегда понятные мне слова, задавала иногда казавшиеся мне странными вопросы, с тихой серьезностью сама себе на что-то отвечала... Вдруг с поразившей меня теплотой она вспомнила моего давно уже умершего отца; когдато он жестоко обидел ее, и все годы, со дня нашей свадьбы, она я знал это - скрывала к нему неприязнь... Может быть, она пересматривала всю свою жизнь?..
Говорят, что когда человек умирает, в самую последнюю минуту перед ним в одно мгновение во всех своих подробностях проносится все пережитое им. Так ли это? Не знаю... Но у нее и далекое прошлое, и недавнее, и настоящее уже окончательно смешалось. Время полностью потеряло всякую власть над ней. Она умирала...
Откуда берется широко распространенное мнение о том, что в самую последнюю минуту человеку вдруг во всех подробностях открывается вся его жизнь? Почему представление о загадочном состоянии духа, когда в сознании в одно мгновение проносится все когда-то случившееся с ним, связуется именно со смертью?..
Но ведь и вневременное бытие Бога - это точно такое же мгновение, которое вместило в себя всю земную вечность. Создатель всего сущего (включая и само время), Он живет вне потока физических событий, заполняющих наш мир (так фантаст, создающий в своем сознании какие-то экзотические миры, живет вне причинноследственного их Гольфстрима), и совершенно бессмысленно искать что-то протяженное между изреченным Им Словом и немедленно материализующимся результатом речения. Любое, сколь угодно ничтожное, мгновение Его бытия (как и это загадочное мгновение человеческой смерти) вместит в себя всю без какого бы то ни было изъятия историю Космоса от самого сотворения мира до последнего Суда над ним, ибо именно определенность всей этой истории и составляет полную семантическую структуру Его Слова. Но если вся ее нескончаемость без изъятия вмещается в какую-то ничтожную точку Его жизни, то взгляд "изнутри" этой истории неминуемо обнаружит, что сама эта точка как бы растеклась по всей временной оси тварного мира и объяла собой целую вечность... (Так, если бы порождаемые нашим собственным воображением химеры имели возможность самостоятельно мыслить, они, вычисляя формулу нашего - их создателей - существования, неминуемо обнаружили бы, что и самое краткое мгновение нашего творчества растекается по всей протяженности их истории и навсегда растворяет в себе их химерическую вечность.)
Но если и в самом деле нет ничего в несуществующем для Него промежутке между замыслом и результатом, так что же, и Его бытие - это пограничное между жизнью и смертью состояние? Что есть Его жизнь, и может ли она сводиться лишь к безвольному вечному созерцанию того, что уже нельзя изменить?..
Его бытие не имеет физической формы, единственная форма Его существования - это немедленно воплощаемое в материализованный hrnc Слово. Но ведь Писание говорит совсем не о мгновении: шесть дней звучало Оно. И если в ничтожном мгновении, сливающем воедино речение и результат, нет никакой жизни, то, может быть, и в самом деле Слово - это только простое иносказание какой-то последовательности пространных речений, долженствующих детализировать замысел? Может быть, живописуемое Книгой Бытия Шестисловие и есть Его жизнь?..
Слово... Как всякая женщина, она придавала большое значение словам... Почему слова столь значимы для женщин? И зачастую тем больше, чем более пусты они и глупы? Магия слова, в чем она? Я знаю, что завораживающая ритмика речи способна творить чудеса, но никакое даже согласное со всеми законами гармонии письмо не в состоянии передать волшебства живого звучащего слова. Пусть даже и не всегда правильного. Что придает глубокое, едва ли не философское, значение на первый взгляд совершенно бессмысленным звукосочетаниям, что лишает всякого смысла казалось бы полные великой мудрости речения - тембр, интонации, ритм?..