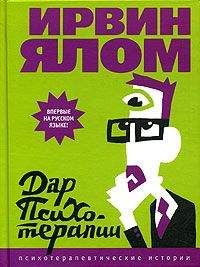До того, как я начал вести группы в больнице, я думал, что руководить группой приходящих пациентов — тяжелый труд. Совсем непросто вести группу из семи-восьми нуждающихся в поддержке пациентов, у которых большие проблемы в отношениях с другими людьми. За время встречи я уставал, часто чувствовал себя как выжатый лимон и удивлялся терапевтам, у которых хватало выносливости вести две группы подряд. Но стоило мне начать работать с группой больничных пациентов, и я начал с тоской вспоминать старые добрые дни, когда работал с амбулаторными больными.
Представьте себе группу амбулаторных пациентов — содержательную встречу сотрудничающих между собой людей с высокой мотивацией: тихая, уютная комната; медсестры не стучат в дверь, чтобы уволочь пациента на какую-нибудь лабораторную процедуру или к врачу; среди пациентов — ни одного самоубийцы с перебинтованными запястьями; никто не отказывается говорить; никто не накачан успокоительными до полной отключки и не начинает храпеть посреди встречи; а самое главное — на каждую встречу приходят одни и те же пациенты, один и тот же сотерапевт, неделю за неделей, месяц за месяцем. Какая роскошь! Просто нирвана для терапевта. В противоположность этой картине, моя внутрибольничная группа была кошмаром. Постоянное, стремительное обновление состава группы; частые психотические вспышки; участники, склонные ко лжи и манипуляциям; безнадежные пациенты, истощенные двадцатью годами депрессии или шизофрении; осязаемое отчаяние в воздухе.
Но настоящим убийцей, лишающим врачей мужества, была бюрократия, царившая в больничном и страховом деле. Каждый день оперотряды агентов HMO[3] совершали кавалерийские атаки на отделение, прочесывали больничные карты и приказывали выписать очередного плохо соображающего, отчаявшегося пациента, если вчера он кое-как функционировал и если в его карте не было записи лечащего врача, гласящей, что пациент склонен к самоубийству или опасен для окружающих.
Неужели когда-то, и не так уж давно, главной задачей врача было — помочь пациенту? Неужели когда-то врачи принимали в больницу больных и выписывали их только после выздоровления? А может, это был только сон? Я стараюсь больше не задевать эту тему, потому что не хочу видеть покровительственные усмешки студентов: «Опять профессор разворчался о золотом веке, когда администраторы помогали врачу лечить пациентов.»
Бюрократические парадоксы меня бесили. Возьмем, например, Джона — мужчину средних лет, страдающего паранойей и легкой умственной отсталостью. Однажды он подвергся нападению в ночлежке для бездомных. После этого он избегал оплачиваемых штатом ночлежек и спал на улице. Джон знал волшебные слова, открывающие доступ в больницу: часто в холодные, дождливые ночи, обычно около полуночи, он расцарапывал себе запястья у приемного покоя скорой помощи и угрожал нанести себе более серьезные повреждения, если штат не обеспечит ему безопасное, приватное место для ночлега. Но ни одно учреждение не обладало полномочиями выдать Джону двадцать долларов на комнату. А поскольку у врача, дежурящего в приемном покое неотложной помощи, не было уверенности — то есть, не было уверенности с медицинской и юридической точек зрения — что Джон не совершит серьезной попытки самоубийства, если его заставить спать в ночлежке, Джон много раз за год получал возможность хорошо выспаться в больничной палате стоимостью 700 долларов в сутки. И все благодаря нашей нелепой и негуманной системе медицинского страхования.
Современная практика краткосрочной психиатрической госпитализации оправдана только при наличии адекватной программы для работы с больным после выписки. Тем не менее в 1972 году губернатор Рональд Рейган одним смелым, гениальным росчерком пера отменил душевные болезни в Калифорнии. Он не только закрыл крупные психиатрические больницы штата, но и отменил большую часть общедоступных программ работы с амбулаторными пациентами. В результате больничный персонал был вынужден день за днем производить загадочные действия — лечить пациентов, а затем выписывать их в те же неблагоприятные условия, которые в первую очередь и стали причиной госпитализации. Как будто на скорую руку зашиваешь раненых солдат и бросаешь их обратно в бой. Представьте, что вы рвете себе жилы, работая с пациентами — начальные интервью, ежедневные обходы, представления лечащим психиатрам, планерки для сотрудников, работа со студентами-медиками, вписывание назначений в медицинские карты, ежедневные терапевтические сессии — и прекрасно знаете, что еще пара дней, и вы будете вынуждены вернуть пациентов в ту же злокачественную среду, которая изрыгнула их. Назад в семьи алкоголиков, склонных к насилию. Назад к озлобленным супругам, у которых давно уже кончилась любовь и терпение. Назад к магазинным тележкам, полным тряпья. Назад к ночевкам в ржавеющих брошенных машинах. Назад в общество невменяемых дружков-кокаинистов и безжалостных торговцев наркотиками, ожидающих за воротами больницы.
Вопрос: как же мы, целители, умудряемся не сойти с ума? Ответ: мы научаемся лицемерить.
Вот так я и трудился. Сперва научился приглушать свое желание помочь — тот самый маяк, который и привел меня в эту профессию. Потом освоил каноны профессионального выживания: не принимай ничего близко к сердцу — не допускай, чтобы пациенты значили для тебя слишком много. Помни, что завтра их здесь уже не будет. Их планы после выписки не должны тебя волновать. Довольствуйся малым. Ставь себе небольшие цели. Не пытайся сделать слишком много. Исключи всякий риск неудачи. Если пациенты терапевтической группы узнают хотя бы то, что общение может им помочь, что быть ближе к другим — хорошо, что они сами могут быть кому-то полезны — это уже много.
Постепенно, после нескольких безнадежных месяцев руководства группами, участники которых ежедневно выписывались и на их место поступали новые, я навострился и разработал метод, позволявший выжимать максимум пользы из этих разрозненных групповых встреч. Самым радикальным моим шагом было изменение временных рамок.
Вопрос: какова продолжительность жизни терапевтической группы в психиатрическом отделении больницы? Ответ: одна встреча.
Группы амбулаторных пациентов существуют много месяцев, даже лет; иным проблемам нужно время, чтобы проявиться, чтобы их можно было опознать и решить. В долговременной терапии есть время на «проработку» — можно ходить кругами вокруг проблемы, берясь за нее снова и снова (есть даже такой шутливый термин, «циклотерапия»). Но у больничных терапевтических групп нет стабильности, они не могут вернуться к теме из-за мельтешения участников. За пять лет в отделении я редко проводил две встречи группы подряд в одном и том же составе, и никогда — три подряд. А многих, очень многих пациентов я видел лишь единожды: они приходили на одну встречу, а на следующий день их выписывали. Так я и стал утилитарным групповым терапевтом в духе Джона Стюарта Милля — на встречах своих одноразовых групп я старался преподнести наивысшее возможное благо наибольшему возможному количеству людей.
Может быть, именно потому, что я сделал ведение больничной терапевтической группы своего рода искусством, мне удалось сохранить преданность делу, заведомо безнадежному из-за обстоятельств, на которые я не мог повлиять. Я считаю, что создавал восхитительные групповые встречи. Прекрасные, как произведения искусства. Я рано понял, что не способен ни петь, ни танцевать, ни рисовать, ни играть на музыкальных инструментах. Я смирился с тем, что никогда не стану артистом или художником. Но передумал, когда начал ваять групповые встречи. Может быть, у меня все-таки есть талант; может, мне просто нужно было найти свое призвание. Пациентам встречи нравились; время летело быстро; у нас бывали моменты нежности и моменты подъема. Я учил других тому, чему научился сам. На студентов-наблюдателей это производило большое впечатление. Я читал лекции. Я написал книгу о своей работе с больничными группами.
Годы шли, и все это стало мне надоедать. Встречи казались однообразными. За одну встречу можно было добиться лишь ограниченных результатов. Надо мной словно висело проклятие, заставляющее меня обрывать на первых нескольких минутах беседу, которая могла бы перерасти в возвышающее собеседников общение. Я жаждал большего. Я хотел входить глубже, значить больше в жизни моих пациентов.
И потому много лет назад я перестал вести внутрибольничные группы и сосредоточился на других видах терапии. Но каждые три месяца, когда в больницу приходят новые ординаторы, я сажусь на велосипед и еду из своего кабинета на медицинском факультете в психиатрическое отделение больницы, чтобы неделю работать на износ, обучая студентов ведению терапевтических групп для стационарных больных.