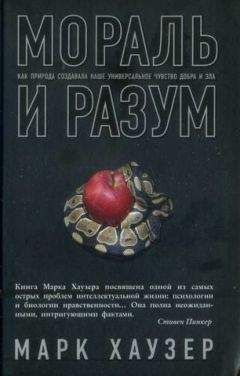В-третьих, даже если биология вносит свой вклад в нашу моральную психологию, только религиозная вера и юридические принципы могут предотвратить моральное разложение. Эти две формальные системы, с их четко сформулированными правилами, должны активно действовать, нивелируя эгоистичные импульсы. Дарвин придерживался близкой к этому позиции, заявляя: «Человек, который не верит и не имел когда-либо оснований уверовать в существование своего личного Бога или будущей жизни, несущей возмездие или вознаграждение, в качестве правила жизни, насколько я могу судить, может только следовать своим импульсам и инстинктам, тем из них, которые оказываются самыми сильными или представляются ему наилучшими»[388].
В относительно недавнем прошлом Адольф Гитлер, следуя логике Дарвина, но явно с низкими целями, утверждал, что только религия может формировать наш моральный облик, и, таким образом, «светские школы нельзя допускать, потому что такие школы не имеют никакого религиозного обучения, а общее моральное обучение без религиозной основы построено на воздухе; следовательно, обучение и воспитание характера должны быть построены на религии и вере... мы нуждаемся в верующих людях»[389].
Хотя приравнивание этики к религии широко распространено, оно неправильно, по крайней мере по двум причинам. Из него следует ложное предположение, что люди без религиозной веры испытывают недостаток в понимании моральных прав и заблуждений и что люди религиозные более добродетельны, чем атеисты и агностики. Как показывают исследования моральных суждений в широком диапазоне культур, атеисты и агностики равно и в полном объеме способны к различению нравственно допустимых и запрещенных действий. Еще более важно, что при предъявлении большого набора моральных дилемм и тестовых ситуаций иудеи, католики, протестанты, сикхи, мусульмане, атеисты и агностики формулируют те же самые суждения и с таким же уровнем несогласованности или непоследовательности при их объяснении. Следует признать, объем выборки в этих исследованиях был ограничен. Но в пределах этого диапазона, который включает людей, по их собственному признанию, глубоко религиозных и тех, кто считает себя атеистом, нет никакого различия. Эти наблюдения дают основания считать, что система, которая подсознательно порождает моральные суждения, не чувствительна к религиозной доктрине.
Идея, что религия необходима для того, чтобы порождать моральные суждения, терпит неудачу и на другом уровне. Большинство, если не все религии основываются на относительно простых этических правилах: не убивай, не обманывай, не кради, не нарушай обещания. Эти правила, однако, не способны объяснить образцы моральных суждений, которые были описаны в предыдущих главах. Мы не перестаем ощущать «вес» моральной дилеммы, когда простое этическое правило или прагматический принцип подводят нас. Религия может заставить людей говорить, что эвтаназия и аборт нравственно неправильны, но когда религиозные деятели сталкиваются с подобными, но менее знакомыми и эмоционально напряженными случаями, их интуиция не дает им однозначного ответа.
Недалеко от религиозной доктрины ушла идея, согласно которой наши универсальные моральные установки возникают на основе общего жизненного опыта и обучения, а не на основе на-
шего универсального биологического фундамента. Каждый ребенок развивается в относительно гомогенной среде, которая прививает ему универсальные правила, позволяющие решать, когда необходимо оказать помощь, а когда допустимо причинить вред. Дети копируют нравственно допустимые действия, но не запрещенные. Родители и педагоги корректируют неправильное, с точки зрения морали, поведение и одобряют правильное.
Эта позиция также ошибочно предполагает, что представление о моральных инстинктах отрицает роль обучения, кроме того, она не в состоянии объяснить расширение объема знаний в сфере морали. Подобно языковым системам, конкретно-специфические и культурно-вариативные моральные системы являются предметом обучения, — в том смысле, что детальное содержание социальных норм приобретается в результате приобщения к местной культуре, в то время как абстрактные принципы и параметры являются врожденными. Опыт должен инструктировать врожденную систему, сокращая диапазон возможных моральных систем вплоть до одной — специализированной. Этот тип инструктивного обучения характерен для бесчисленных биологических процессов — от иммунной системы до языковых способностей. Когда геном создает механизм для порождения фактически безграничного диапазона потенциально возможного разнообразия, роль опыта заключается в том, чтобы путем ряда выборов привести организм к конечному и определенному результату. Исходно иммунная система способна реагировать на огромное число молекул, но, благодаря влиянию опыта, приобретенного в раннем детстве, реально оказывается связанной только с немногими. Точно так же лингвистическая способность могла бы обеспечить усвоение множества живых языков, но, благодаря влиянию родного языка, ограничивается несколькими параметрами, порождая единственный язык. Я утверждаю, что мораль формируется по такому же принципу.
Привлечение опыта в качестве единственной детерминанты морального знания ребенка не может объяснить диапазон нравственно релевантных действий, демонстрируемых детьми, если не учитывать подражание и родительскую инструкцию. Дети совершают разнообразные действия, которые родителям и их ровесникам совершенно не свойственны. Так, взрослые никогда не говорят «Меня пошло на рынок», точно так же они никогда не сгребают все игрушки в одну кучу, демонстрируя чрезвычайный собственнический инстинкт, и, будучи расстроены, не бьют и не кусают своих приятелей. Набор моральных действий ребенка не является «клоном» родительского. Более того, если вы внимательно понаблюдаете за поступками детей, то увидите: не все, что детям не следует делать, соответствует тем особенностям их поведения, которые родители или сверстники этих детей пытались изменить в прошлом. Родительские установки моральных норм могут объяснить только небольшую долю знаний ребенка. Главная причина этого состоит в том, что многие из принципов, лежащих в основе наших моральных суждений, недоступны сознательному отражению. Взрослые считают, что преднамеренный вред хуже, чем предсказанный (вспомним дилемму, в которой решение столкнуть толстого мужчину на рельсы перед вагоном воспринимается как более вредоносное по сравнению с переключением тумблера), но, как правило, не осознают, что в своих суждениях они опираются на различие в оценках преднамеренного и предсказанного вреда. Родители не могут преподать то, чего они не знают.
Интуитивные моральные представления, которые направляют многие из наших суждений, часто находятся в противоречии с руководящими принципами, продиктованными законом, религией или тем и другим вместе. Ни в одной из жизненных сфер это противоречие не является более важным, чем в области этики биологических исследований, и особенно в тех случаях, когда речь идет о недавних сражениях по поводу допустимости эвтаназии и аборта. Чтобы увидеть, как развивается эта проблема и почему необходимо более глубокое понимание нашей моральной способности, если мы хотим провести границу между описательными и предписывающими принципами, позвольте мне возвратиться к эвтаназии и случаю с Терри Шейво, с которого я начал эту книгу. Эпизод с эвтаназией, осуществляемой путем прекращения жизнеобеспечения, оказался довольно обычным. 15 июня 2005 года поиск упоминаний о «Терри Шейво» на сайте Google дал 1 220 000 ссылок; в тот же день поиск упоминаний термина «эвтаназия» дал 1 480 000 ссылок. Одновременно упоминание о «мировом голоде» встречалось в 8 780 000 случаев. Эти статистические данные вполне типичны.
Когда такой случай становится предметом всеобщего обсуждения, от 60 до 70% голосующих людей полагают, что доктора должны прекратить поддержание жизни, отключив каналы жизнеобеспечения. Кроме того, те же респонденты отметили, что они примут такое же решение в подобной ситуации и в отношении себя, и в отношении своего супруга. Та часть аудитории, которая придерживалась противоположной точки зрения, в основном представляла сторонников религиозного права, утверждавших, что жизнь является драгоценной и находится в руках Бога. Кардинал Жозе Сарэйва Мартинс из Ватикана сказал, что решение отключить жизнеобеспечение Терри было «выступлением против Бога».
Причины этой шумихи остаются неясными. Возможно, они связаны с расплывчатостью общественного мнения в Соединенных Штатах, где разделение влияний между правительством и религией до сих пор остается достаточно неопределенным. Возможно, причина — в особых обстоятельствах этого конкретного случая, включая эпизоды остановки и возобновления жизнеобеспечения, вражду между членами семейства, вовлечение правительственных должностных лиц высокого уровня без их личного контакта с Терри или с членами ее семьи, и, разумеется, очевидную готовность исполнительной власти отвергнуть закон, идя навстречу личным убеждениям или религиозным верованиям. Отставив лицемерие, большинство людей примкнули к пожеланиям Терри закончить поддержание жизни, разделив точку зрения, которая, кроме того, совпадает с большинством философских, юридических и медицинских аргументов, но не согласуется с религиозной доктриной. С точки зрения здравого смысла и интуитивно многие из нас полагают, что, если человек страдает от болезни без надежды или с минимумом надежды на излечение, самый гуманный подход — завершение жизни или путем прекращения жизнеобеспечения, или другим способом, приносящим смерть как облегчение. Это случай, в котором многие вред расценивают как допустимый, а некоторые считают возможным воспринимать его как обязательный, особенно когда боль и страдания мучительны и нет никаких средств лечения. Разногласия между людьми возникают, когда обсуждается вопрос, есть ли существенное различие между двумя способами, позволяющими больному уйти из жизни: прекращение поддержки жизнеобеспечения и использование сверхдозы препарата?