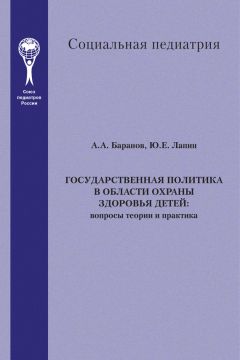Таким образом, тенденция к периодическому ослаблению самости возникла у мисс В. в раннем детстве в патогенной матрице ее отношения к зеркально отражающей матери. Однако мисс В. была энергичным и одаренным ребенком, который не сдался в борьбе за эмоциональное выживание. Пытаясь освободиться от патогенных отношений с матерью, она сильно привязалась к отцу, преуспевающему бизнесмену с фрустрированными художественными талантами и амбициями, который в целом отвечал на потребности своей дочери. Таким образом, ее отношения с отцом стали матрицей, на основе которой у нее развились интересы и дарования (в терминах клинической теории — компенсаторные структуры), которые в конечном счете и позволили ей сделать карьеру. Из этой матрицы также произрастали идеализированные цели, стимулировавшие творческий потенциал ее самости. Другими словами, ее отношение к идеализированному отцу обеспечило ее основой интернализированной структуры — отцовским идеалом, который был потенциальным источником поддержания ее самости. Создавая произведения искусства, она не пыталась проживать эдиповы фантазии (родить ребенка отцу), как я думал вначале, а недостаток ее продуктивности, соответственно, не был обусловлен чувством вины (из-за инцестуозных желаний). Ее художественная деятельность представляла собой попытку соответствовать отцовскому идеалу совершенства; и то, что она потерпела неудачу в этих своих стараниях, не было обусловлено какими-либо парализующими структурными конфликтами; это произошло потому, что ее идеалы были недостаточно интернализированы и консолидированы. Поэтому перенос реактивировал не эдипову психопатологию, а нарушение самости. Кроме того, на протяжении наиболее важных стадий анализа проработка была направлена не на первичный структурный дефект ее самости (психопатологию, связанную с искаженными эмпатическими реакциями матери на ребенка), как это можно было бы ожидать, а (при возникновении вторичного идеализирующего переноса) на недостаточность компенсаторных структур (психопатологию, вызванную фрустрацией со стороны отца). Следовательно, частичный успех анализа — ее депрессивные реакции не исчезли совсем, но они стали менее выраженными и гораздо менее продолжительными — был связан не с устранением первичного дефекта самости, а, как я теперь понимаю ретроспективно, с восстановлением компенсаторных структур. В частности, важнейшие реактивированные эмоции при переносе касались событий в детстве, когда отец сам, по-видимому, был настолько фрустрирован эмоциональной отчужденностью жены и недостатком у нее эмпатии, что также, наверное, на некоторое время становился подавленным и, следовательно, эмоционально недоступным для своей дочери. Я не уверен, находился ли иногда он в угнетенном состоянии, когда пациентка была ребенком; однако на основе реакций пациентки при переносе нам удалось реконструировать, что он часто отдалялся от семьи — уходил из дома (сбегал от матери пациентки на работу или играл в гольф с друзьями). Вместе с тем его дочь нуждалась в нем больше всего, когда мать была подавлена, и дочь ожидала, что ее идеализированный отец, которым она восхищалась, будет защитой от апатии, исходившей от матери и угрожавшей поглотить личность ребенка.
Глава 2
Нужна ли психоанализу психология самости?
В предыдущей главе я представил клинический материал в подтверждение тезиса, что мы можем рассматривать анализ как завершенный, если благодаря достижению успеха в области компенсаторных структур возникла функционирующая самость — психологический сектор, в котором стремления, умения и идеалы создают непрерывный континуум, позволяющий наслаждаться творческой деятельностью. Определение психоаналитической терапии, вытекающее из предыдущего утверждения, необходимо теперь оценить с учетом определений, которые принимались психоаналитиками традиционно.
Прежде чем перейти к деталям, позвольте мне подчеркнуть, что я делаю здесь акцент на следующем принципе: я не занимаюсь проблемами, связанными с такими понятиями, как аналитическая мудрость, разумная целесообразность и т. п., хотя я целиком признаю их клиническую релевантность, — и что я, наверное, избежал бы многих трудностей, если бы обратился в первую очередь к ним, поскольку ни один аналитик не будет нереалистично претендовать на то, что он когда-либо полностью проанализировал человека во всех секторах его личности или что он вообще должен пытаться достичь такого совершенства. Я занимаюсь здесь проблемой, возникающей по причине того, что я говорю о правомерном завершении анализа, который — в терминах структурной теории — не имел отношения ко всем слоям патологии анализанда и который — в терминах когнитивной теории — не вел к устранению всех детских амнезий, к расширению знания о всех событиях детства, генетически и динамически связанных с психопатологией пациента.
Фрейд, разумеется, был убежден, что психоанализ оказывает благотворное воздействие на анализанда, что он приводит в действие процесс, энергию которого необходимо поддерживать, и что его следует продвигать, насколько это возможно. Но хотя он и представил нам в общих чертах суть этого процесса, который, говоря кратко, можно определить либо в терминах когнитивной теории как осознание бессознательного, либо в терминах структурной теории как расширение сферы влияния Эго, он никогда не говорил — по крайней мере с научной серьезностью, то есть в теоретических терминах, — о своей убежденности в благотворном воздействии анализа в форме утверждения, что психоанализ излечивает психологические болезни, что он восстанавливает психическое здоровье. Ценность здоровья не являлась для Фрейда главной. Он верил в желательность максимально возможного знания: он был — благодаря совпадению и взаимному подкреплению господствовавшего мировоззрения того времени и некоторых его личных предпочтений (без сомнения, обусловленных его ранними детскими переживаниями), которые преобразовали это научное мировоззрение в его личный категорический императив, в его личную религию — беззаветно предан задаче познания истины, соприкосновения с истиной, ясного видения реальности.
Одна из самых расхожих историй о жизни Фрейда касается этого глубоко укорененного аспекта его личности. Узнав, что у врача были сомнения, стоит ли ему говорить, что у него злокачественная опухоль, он испытал сильнейшее раздражение. «По какому праву кто-то должен скрывать от меня это знание?» — спросил он, игнорируя возможность того, что краткий миг сомнений, надо ли ему говорить зловещую правду, объясняется добротой и заботой, а не покровительственным высокомерием (см. Jones, 1957, р. 93).
Сочинения Фрейда (1927b; 1933, гл. 25) дают множество доказательств того, что высшей ценностью для него была ценность мужественного реализма, безбоязненного столкновения с правдой. Разумеется, его гнев просто из-за того, что кто-то посмел даже подумать о том, чтобы утаить от него важную правду, можно интерпретировать разными способами. Я полагаю, что многие аналитически обученные наблюдатели склонны подозревать, что гнев, который он проявил, был всего лишь заменой гнева, который он испытывал из-за того, что страдал злокачественной опухолью и ему угрожала смерть, то есть что он мог теперь выразить этот гнев, поскольку мог оправдать его как реакцию на возможность того, что кто-то хотел скрыть от него истину. Я бы предложил другое объяснение. Я полагаю, что ядро самости Фрейда было скорее связано с функцией восприятия, мышления и понимания, чем с физическим выживанием, и что для его ядерной самости большую опасность представляло сокрытие от него знания, чем угроза физического разрушения.
Приверженность Фрейда истине восхищает и, если рассматривать ее обособленно, бесспорна. Кроме того, благодаря идентификации с ним она стала главной ценностью аналитиков. Однако влияние, оказываемое на теорию и терапевтические представления в психоанализе приматом ценностей, связанных с расширением знания, вынуждает нас, несмотря на все наше внутреннее сопротивление, перепроверить это, подвергнуть сомнению его власть над нашим мышлением, потому что он становится ограничивающим фактором, когда мы пытаемся постичь формы психопатологии и методы терапии, которые нельзя понять, если рассматривать их с классической точки зрения.
Какой бы привлекательной — и потенциально ценной при надлежащей проработке, sine ira et studio[14] — ни была эта задача, я оставляю в стороне исследование личного фактора, в частности поиск каких-либо генетических данных, которые объяснили бы, почему стремление Фрейда знать полную правду, какой бы болезненной она ни была, стало столь яркой особенностью его личности. Вместо этого я сосредоточусь на оценке позиции Фрейда как представителя науки XIX века, в частности на влиянии его «Научного мировоззрения» (1933) на форму, содержание и область приложения его теорий.