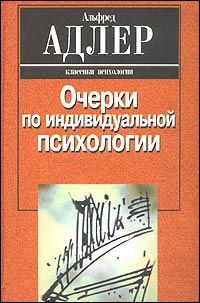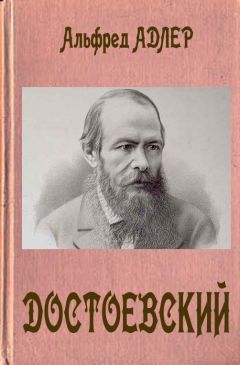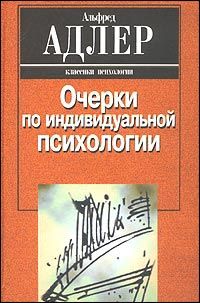нам неизвестен.
537. Удалим из понятия бога высшую доброту — она бога недостойна. Удалим также высшую мудрость: это все тщеславие философов, которым бог обязан сумасбродным ореолом монстра мудрости — они ведь хотели, чтобы бог походил на них! Нет! Бог — высшая власть, этого достаточно! Из этого следует все, из этого следует — «весь мир»!
538. А сколько новых богов еще возможно! Даже мне самому, в котором от поры до поры снова норовит ожить религиозный, то есть богообразующий инстинкт, — насколько же по-иному, всякий раз по-разному открывалось мне божественное!.. Столько всего странного прошло уже мимо меня в те вневременные миги, что падают в жизнь словно с Луны, когда ты сам решительно не знаешь, насколько ты уже стар и сколь молод еще будешь… Так что я не стал бы сомневаться, что есть много видов богов… Среди них нет недостатка и в таких, которых невозможно помыслить без известной доли алкионизма и ветрености… А, быть может, легконогость вообще неотделима от понятия «бог»… Надо ли долго объяснять, что любой бог в любое время предпочитает и умеет держаться по ту сторону всего разумного и обывательского? Как и, кстати сказать, по ту сторону добра и зла? Взор ему ничто не застит — говоря словами Гёте. — А еще, призывая ради такого случая на помощь бесценный авторитет Заратустры: Заратустра в своих свидетельствах заходит столь далеко, что уверяет: «я поверил бы только в такого бога, который умеет танцевать»…
Еще раз говорю: многие новые боги еще возможны! — Сам Заратустра, правда, закоренелый атеист. Так что надо понять его правильно! Он хоть и говорит, что поверил бы — но Заратустра никогда не поверит…
Тип бога по типу творческих гениев, «великих людей».
539. А сколько новых идеалов в сущности еще возможно! Вот вам идеал, который мне удается уловить раз в каждые пять недель во время дикой и одинокой прогулки, в лазурный миг кощунственного счастья. Проводить жизнь среди нежных и абсурдных вещей; вчуже от реальности; полухудожником, полуптицей и метафизиком; без «да» и «нет» по отношению к реальности, за исключением разве тех мигов, когда, подобно хорошему танцору, снисходишь до нее и легким касанием мыска признаешь; вечно под щекочущим зайчиком какого-нибудь солнечного луча счастья; раскован и бодр духом даже в печали — ибо печаль хранит счастливого; прицепляя маленький хвост шалости даже самому святому, — это, как оно само собой понятно, идеал тяжелого, в центнер весом, духа, духа самой тяжести…
540. Из воинской школы души. Храбрым, радостным духом, выдержанным посвящается.
Не хочу недооценивать любезные добродетели; но величие души дружит не с ними. Да и в искусствах истинный размах исключает всякую приятность.
Во времена болезненного напряжения и уязвимости — выбирай войну: она закаляет, она наращивает мускулы.
Последним уделом глубоко раненных остается олимпийский смех; имеешь только то, что необходимо.
И так уже десять лет: до меня более не доносится ни звука — край без дождя. Нужно иметь в себе большой запас человечности, чтобы не изнемочь в такой засухе.
541. Мой новый путь к «да». Философия, как я прежде ее понимал и жил, есть добровольное гостевание на проклятых и нечестивых сторонах сущего. Из долгого опыта, приобретенного в этом скитании по льдам и пустыням, я научился на все, что прежде посягало на философствование, смотреть иначе: — скрытая история философии, вся психология великих ее имен открылась мне в новом свете. «Сколько истины вынесет, на сколько истины отважится данный ум?» — вот вопрос, ставший для меня главным мерилом значения и ценности. Заблуждение — это трусость… всякое достижение познания есть следствие мужества, суровости к себе, чистоты перед собой… Подобная экспериментальная философия, какой я ее живу, на пробу предвосхищает даже возможности принципиального нигилизма: однако это вовсе не означает, что она останавливается на отрицании, на «нет», на воле к «нет». Она, напротив и в гораздо большей мере, хочет дойти как раз до обратного, пробиться до дионисийского да-сказания миру как он есть, без изъятий, исключений и разбора, — она хочет вечного круговорота все тех же вещей, той же логики и нелогичности узлов и хитросплетений. Высшее состояние, которого может достигнуть философ, — это относиться к сущему дионисийски. Моя формула для этого состояния: amor fati [131]…
Сюда же относится и вот что: понять прежде отрицаемые стороны сущего не только как необходимые, но и как желательные, и не только как желательные в отношении к прежде утверждаемым, принятым сторонам (допустим, как их дополнения или предпосылки к их существованию), но ради них самих — как более мощных, плодотворных, истинных сторон сущего, в которых отчетливее артикулирует себя его воля. Равно как сюда же принадлежит и необходимость отнестись к прежде только утверждаемой, одобряемой стороне сущего не столь однозначно; понять, откуда эта прежняя завышенная оценка взялась и сколь мало обязательна она для дионисийского ценностного отношения к сущему: я вычленил и понял, что именно говорит здесь «да» (инстинкт страдальцев, во-первых, стадный инстинкт, во-вторых, и еще тот самый третий, инстинкт большинства, не желающий признавать исключения). Тем самым я догадался, с какой мерой необходимости иной, более сильный человеческий вид должен мыслить себе возвышение и развитие человека с учетом той, иной стороны сущего: высшие существа, по ту сторону добра и зла, по ту сторону оценок, которые (оценки) не могут отрицать своего происхождения из сферы страдания, стада и большинства, — я искал начатки формирования этого обратного идеала в истории (открыл наново и постулировал понятия «языческое», «классическое», «благородное»).
542. Продемонстрировать, насколько греческая религия была более высокой формой, нежели иудейско-христианская. Последняя победила, потому что греческая религия сама выродилась (регрессировала, отошла назад).
543. Ничего удивительного, если потребовалась пара тысячелетий, чтобы снова обрести смычку — много ли значит пара тысячелетий!
544. Должны быть такие, кто освящает любые людские дела и обыкновения, не только еду и питье, — и не только в память об этих обрядах или в соединении себя с ними, но всегда наново и по-новому должен преображаться этот мир.
545. Наиболее духовные люди воспринимают прелесть и волшебство чувственных вещей так, как прочие люди, люди с «более плотскими сердцами» даже и представить себе не могут — да им и нельзя этого дозволять: — они свято верующие сенсуалисты, ибо придают куда более весомое значение чувствам, нежели тому тончайшему ситу, тому аппарату утоньшения и уменьшения, — или как еще назвать то, что на языке народа именуется «духом». Сила и власть чувств — это самое существенное в счастливо одаренном и целостном, полном человеке: первым делом в нем должен быть «задан» великолепный