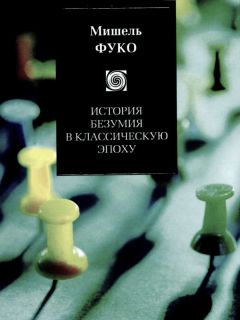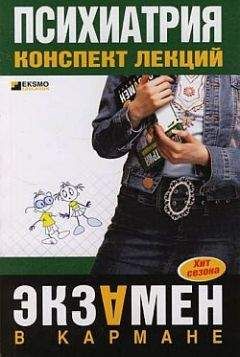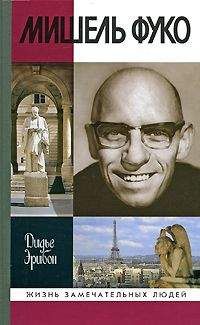вочеловечивании Бога, составляющий основу христианского учения, теперь может быть истолкован как творческая борьба противоположностей в человеке, их синтез в самости, индивидуальной целостности. Неизбежная противоречивость образа Бога Творца снимается в единстве самости как unio mystica. [29] В сознании личности присутствует уже не прежняя оппозиция «Бог – человек» – она преодолена, противоречия заключены в самом Богообразе. И это станет смыслом «богослужения» – свет, возникающий из тьмы, Творец, осознающий свое творение, и человек, осознающий самого себя.
Это та цель или одна из тех целей, что с умыслом назначена человеку творением, заключающая в себе этот умысел. Это и есть все объясняющий миф, который многие годы я создавал для себя. Это цель, которую я могу познать, я считаю ее достойной, она удовлетворяет меня. Благодаря своему рефлектирующему сознанию человек возвышается над животным миром, и это подтверждает, что природа в высшей степени поощряет именно развитие сознания. Сознание позволило человеку сделаться властелином природы, и, познавая бытие мира, он утверждает Творца. Мир – это некий феномен, который не существует без сознательной рефлексии. Если бы Творец сознавал самого себя, зачем ему тогда сознательное творение; к тому же сомнительно, чтобы крайне сложные и обходные пути созидания, требующие миллионы лет на развитие бесконечного числа видов и тварей, явились продуктом целенаправленных действий. Естественная история говорит нам о развитии случайном и неслучайном, направленном на уничтожение себя и других в течение необозримого времени. Буквально о том же самом свидетельствует биологическая и политическая история человечества. Но история духа – это нечто совершенно иное. Здесь нас потрясает чудо мыслящего сознания – вторая космогония. Значение его столь велико, что невозможно не предположить, что где-то среди чудовищного и очевидно бессмысленного биологического механизма присутствует какой-то элемент осмысленности. Ведь в конечном счете путь к его проявлению был обнаружен на уровне теплокровных – обнаружен как будто случайно, непреднамеренный и непредвиденный, но все же в каком-то «смутном порыве», в предчувствии и предощущении, – осмысленный.
* * *
Я вовсе не утверждаю, что мои размышления о сущности человека и его мифа – последнее и окончательное слово, но, на мой взгляд, это именно то, что может быть сказано в конце нашей эры – эры Рыб, а возможно, и в преддверии близящейся эры Водолея, который имеет человеческий облик.
«Сотворение Адама». Микеланджело Буонарроти
Он в своем роде souverain, [30] содержимое своего кувшина он отправляет в рот Piscis austrinus, [31] выполняющих роль дочернюю, бессознательную. По окончании этой более чем двухсотлетней эры наступит следующая, обозначенная символом Capricornus (чудища, соединяющего в себе черты козы и рыбы, горы и моря, антиномии, созданной из элементов двух животных). Это странное порождение легко принять за прообраз Бога Творца, который противоположен «человеку» – антропосу. Но здесь я умолкаю: соответствующего эмпирического материала, то есть известных мне образов из бессознательного других людей или исторических документов у меня просто нет. А поскольку нет, то любые «умозрительные спекуляции бессмысленны. Они уместны лишь тогда, когда мы располагаем объективными данными, подобными тем, что имеем в случае с Водолеем.
Нам не известно, как далеко может заходить процесс самоосознания и куда он приведет человека. Это новый элемент в истории творения, не имеющий аналогов, и нам не дано узнать его свойства: возможно ли, чтобы species homo sapiens [32] постигла судьба других видов, некогда распространенных на земле, а теперь исчезнувших? У биологии нет средств, чтобы опровергнуть такое предположение.
Потребность в мифологии удовлетворяется постольку, поскольку мы сами формируем собственное мировидение, достаточное для объяснения смысла человеческого существования во Вселенной, – мировидение, истоки которого лежат во взаимодействии сознания и бессознательного. Бессмысленность невозможно совместить с полнотой жизни, это означает болезнь. Смысл многое, если не все, делает терпимым. Никакая наука не сможет заменить миф, и никакая наука мифа не сотворит, поэтому и Бог – не миф, но миф изъясняет Бога в человеке. Не мы измыслили миф, он обращает к нам «слово Божье»; «слово Божье» мы чувствуем, но нам не дано понять, что в нем – от самого Бога. В нем нет ничего неизвестного нам, ничего сверхъестественного, кроме того обстоятельства внезапности, с которой оно приходит к нам и налагает на нас определенные обязательства. Оно не подчинено нашей воле, назвав это вдохновением, мы тоже мало что объясним. Мы знаем, что эта «странная мысль» – вовсе не результат нашего умствования, но явилась извне, «с другой стороны», и, если нам случалось увидеть вещий сон, разве можно приписать его своему разумению? Мы ведь часто даже не знаем, что такое этот сон, – предвидение или некое отдаленное знание?
Это слово входит в нас неожиданно; мы претерпеваем его, поскольку пребываем в глубокой неопределенности: ведь если Бог – некое complexio oppositorum, [33] возможно все, что угодно, – в полном смысле слова, – равно возможны истина и ложь, добро и зло. Миф – это нечто двусмысленное или может быть двусмысленным, как сон или дельфийский оракул. Не стоит отвергать доводы рассудка, следует не терять надежду на то, что инстинкт придет к нам на помощь, и тогда Бог будет на нашей стороне, то есть против Бога, как в свое время считал Иов. Всё, в чем выражена «иная воля», исходит от человека – его мысли, его слова, его представления и даже его ограниченность. И человек, как правило, склонен приписывать все именно себе, особенно когда, опираясь на грубые психологические категории, он приходит к мысли, что все исходит от его намерений и от «него самого». С детской наивностью он воображает, что знает все, что можно постичь, и вообще «знает себя». Тем не менее ему даже в голову не приходит, что слабость его сознания, а отсюда и страх перед бессознательным лишают его способности отделить то, что он выдумал сам, от того, что явилось ему спонтанно, из других источников.
Человек не может оценить себя объективно, еще не может рассматривать себя как некое явление, которое предстает перед ним и с которым, for better or worse, [34] ему приходится себя идентифицировать. Первоначально все, что с ним происходит, – происходит помимо его воли, и лишь ценой огромных усилий ему удается завоевать и сохранить за собой область относительной свободы.
Тогда и только тогда, уже утвердившись в этом своем завоевании, он способен понять всю глубину своей зависимости от того, что заложено в нем изначально и над чем он не властен. Причем эти его изначальные основания вовсе не остаются в прошлом, а продолжают жить с ним, являясь частью его