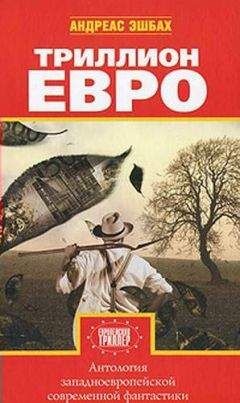Но на сей раз я не могу вызвать у себя гнев. Я чувствую только очень сильную скорбь. Может, мне бы помогло, если бы я рассердилась.
Но она не сердится. Она ощущает «облегчение». В сочетании с гневом, который она испытывала, пока Бесс была жива («я просто готова была убить ее»), это может объяснить навязчивое чувство вины, от которого Руфь теперь не может избавиться. Сделка помогает ей не осознавать гнев (который заставил бы ее испытывать еще худшие чувства в отношении себя), но в то же время приводит к тому, что она отбрасывает хорошие и живет с плохими воспоминаниями. Таким образом, она становится жертвой своей собственной вины.
С Марией мы встретились в группе самопомощи, которая собиралась в церкви. Почти десяток людей приходил туда каждый месяц, чтобы поговорить о тех, кого они потеряли вследствие самоубийства. Она говорила о пережитом тихим напряженным голосом, периодически всхлипывая. Было видно, что она чувствовала сильную боль. Но казалось не совсем ясным, почему она ее испытывала; внешне у нее не было серьезных оснований брать на себя такую тяжесть из-за смерти своего двадцатилетнего племянника. И все же не оставалось сомнений, что она жила с очень сильным чувством вины, вины, которую она разделяла с другими родственниками, но воспринимала очень лично. Ее вина делала невозможным гнев, она была не в состоянии сердиться на юношу, трагически ушедшего из жизни. Дрожащие губы, слезы на глазах — все свидетельствовало, как глубоко Мария потрясена случившимся.
МАРИЯ: Я потеряла племянника четырнадцать месяцев назад. Он взял ружье и выстрелил себе в голову. Он сделал это дома. Мои родители жили на первом этаже, а брат с невесткой и двумя детьми — наверху. Брат услышал выстрел, но, когда вбежал в комнату, было уже поздно. У него в доме хранилось незарегистрированное ружье, племянник собрал его и застрелился.
До того, как это произошло, не было никаких предостерегавших признаков — депрессии или раздачи им своих вещей.
С тех пор в доме воцарился кошмар. Брак моего брата и раньше не ладился. Случившееся вовсе разрушило его. Невестка с сыном уехали из дома. А мой брат живет с переполняющим его чувством вины, он считает, что раз ружье принадлежало ему, то он за все в ответе. Моя невестка со своей стороны не упускает случая упрекнуть его в том, что в доме находилось ружье. Мои родители опустошены горем. Я испытывала особо теплые чувства к племяннику. Случившееся особенно тяжело потому, что мы не знаем, зачем он совершил это. Я все время думаю: «Что же мы такое сделали или, наоборот, упустили? Почему он был столь несчастлив, что свел счеты с жизнью?»
Существование чувства вины и взаимных обвинений в этой семье очевидно. Однако почему именно Мария чувствует себя виноватой, полагает, что она «что-то упустила»? Ответа мы не знаем. Но можно считать, что эта реакция на смерть племянника — часть сделки, которая заставляет ее постоянно обвинять себя и, как она сама признает, мешает ей жить дальше.
Проявления роли жертвы могут быть весьма разнообразными, например символическая смерть вместе с умершим человеком. Даже обладающие большим самоосознанием по сравнению с большинством опрошенных нами лиц попадают в ловушку этой сделки. У Анны-Марии было ужасное детство. Ее мать болела шизофренией и постоянно лечилась в психиатрической больнице. Ее отец, которого она никогда не знала, также был психически болен. Брат вырос в детском доме, но ему все же удалось стать преуспевающим юристом. Потом, в возрасте сорока с небольшим лет, он заболел паркинсонизмом. Тогда пришлось продать свое дело и поменять работу. А между тем болезнь прогрессировала.
В говоре Анны-Марии слышен отчетливый бруклинский акцент. Она живет неподалеку от того места, где родилась. Во время рассказа она испытывает растерянность и боль. События, о которых повествуется, случились недавно.
АННА-МАРИЯ: Продав дело, он все больше уходил в себя. Я постоянно слышу, как он говорит: «Я так одинок, так одинок». Был обычный день. Он временно жил у меня, так как невестка уехала отдыхать во Францию. За ночь он дважды вставал. Во второй раз он сказал, что хотел бы поговорить со мной. И мне казалось, что я его успокоила. Потом в дверь позвонил полицейский.
Брат Анны-Марии выбросился из окна спальни.
Я поймала себя на том, что разговариваю с ним: «Почему ты не пришел ко мне? Почему ты не позвал меня? Я же была в соседней комнате».
Я жалею, что не послушалась своего инстинкта. Я же психолог. Я его слышала, но не слушала. Последнее время я читаю книги, учебники и все, что попадает под руку, о самоубийствах и постоянно спрашиваю себя: «Зачем я это делаю? Ведь он мертв. Чего я ищу?»
Я просто парализована.
Но какова же сделка Анны-Марии? Это выясняется, когда она рассказывает о гневе на брата за то, что он ее оставил.
Я кричу, ору, глядя на это окно, я смотрю вниз и почти шиплю, задыхаясь от злости: «Как же ты мог сделать со мной такое? У нас ведь нет родителей, как ты мог взять и бросить меня? Ты же знал, что я совсем одна». Временами я вымещаю злость на вещах, у меня появилась ненависть к невестке, сильная ненависть. Обычно я пассивный человек и никогда сильно не сержусь. За всю мою жизнь я никогда так не злилась, как сейчас. Даже на своих родителей я не была так сердита за то, что их у меня не было. Это очень фрустрирует. Я ведь жила с мыслью, что у меня, по крайней мере, всегда был брат... Не знаю... Он выбросился из окна в моем доме. Почему он так поступил со мной? Зачем он это со мной сделал?
Анне-Марии, естественно, кажется, что сделанное братом совершено по отношению к ней, поскольку он выбрал именно ее дом, чтобы покончить с собой. Но вместо того, чтобы позволить себе и дальше сердиться, она колеблется в проявлении этого чувства и в конце концов переходит к чувству вины: начинает обвинять себя.
Вместе с братом они пережили серьезную травму — психическую болезнь родителей. Они вдвоем вынесли очень тяжелое детство. Создается впечатление, что их выживание чуть ли не зависело от их единения. Теперь, когда он ее оставил, она, естественно, не понимает почему. По крайней мере, временно Анна-Мария ставит себя на его место. Это она подвела его, а не он. Отождествляя себя с ним, чувствуя его вину, она, возможно, сохраняет иллюзию, что не потеряет его навсегда.
В этом состоит ее сделка. Она достаточно сложна, но ее главная ценность для Анны-Марии в том, что она позволяет ей уйти от гнева, когда она чувствует необходимость этого — от гнева, который может отнять у нее брата навсегда.
Глава 8, СДЕЛКИ: САМООГРАНИЧЕНИЕ
Не всегда жизнь людей, переживших самоубийство близкого, можно уложить в четкие рамки. Далее описываются разнообразные сделки, центральная тема которых — самоограничения, «выхолащивание» своей жизни. Но сфера самоограничений в конкретных случаях различна. На свой гнев люди реагируют широким спектром ограничений своего опыта или переживаний. В способах самоограничений, избираемых для борьбы с гневом или виной, присутствует некая мучительная острота. Читатель может извлечь из дальнейших рассказов немало поучительного.
Брат Бернис умер от отравления наркотиками ровно за одиннадцать лет до нашей беседы. Когда мы встретились с ней, она работала в центре, распространявшем информацию о различных группах самопомощи. Незадолго до встречи ее психотерапевт уехал из города, оставив Бернис без необходимой поддержки. Полтора года назад она сама совершила попытку самоубийства и была госпитализирована в лечебницу, где у нее выявили биполярный аффективный психоз. Бернис положительно отнеслась к беседе, охотно рассказывая о себе. Нас поразило, насколько Бернис была отделена от своих чувств, и она согласилась с нашим мнением.
БЕРНИС: Когда умер мой брат, родители не хотели, чтобы мы обсуждали эту тему. Мне не позволили пойти на похороны, поэтому я не смогла проявить горе в полной мере. Собрав всех нас, отец сказал, что смерть Сэма является «божьим наказанием» за наши грехи.
Мой отец — настоящий, как говорят, трудоголик. Он работал не менее восемнадцати часов в сутки, включая выходные дни. Моя семья была очень религиозной, и это сыграло большую роль в том, что произошло после самоубийства Сэма. Он принимал наркотики и считался позором и проклятием семьи.
Я любила брата и, когда он умер, почувствовала себя заброшенной. После начала маниакалъно-депрессивного психоза у меня появились сильные чувства вины и подавленности. В этом состоянии я приняла большую дозу медикаментов, чтобы отравиться, но не провела никаких аналогий между моей попыткой и самоубийством брата.
Как-то психотерапевт сказал мне, что я держусь за смерть Сэма. Но самое странное в том, что я никогда не упоминала о смерти Сэма на сеансах психотерапии до тех пор, пока терапевт не собрался уезжать. У меня действительно не было никаких чувств в отношении смерти Сэма до той поры, пока он не сказал, что уезжает. И вот тогда-то возникло чувство потери. Я догадываюсь, что у меня нет связи со своими чувствами, я как бы отделена от них и они возникают самопроизвольно.