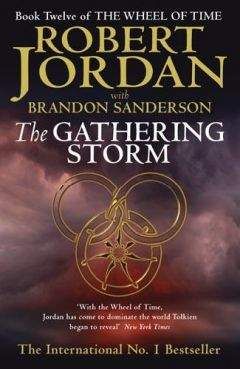Отец мог не волноваться — у меня не было ни малейшего желания податься в богословы. Но я по-прежнему колебался в выборе между естественными и гуманитарными науками — и те и другие одинаково влекли меня. Тем не менее я начал осознавать, что мой "номер 2" не имеет почвы под ногами. Он, безусловно, способен подняться над "здесь" и "сейчас", он — один из глаз в тысячеглазой вселенной, но он неподвижен, как булыжник на мостовой. "Номер 1" восстал против этой пассивности, желая делать что-то, но находился в плену неразрешимых проблем. Мне оставалось лишь ждать, что из этого получится. Если кто-нибудь спрашивал, кем я хочу быть, я по привычке отвечал: филологом. Втайне я подразумевал под этим ассирийскую и египетскую археологию. На самом же деле все свободное время я отдавал естественным наукам и философии, особенно на каникулах, которые я проводил дома с матерью и сестрой. Давно прошли те времена, когда я жаловался матери: "Мне скучно, я не знаю, чем заняться". Теперь я полюбил каникулы — я один и свободен. Больше того, летом моего отца вообще не было дома, он всегда проводил свой отпуск в Захсельне.
Лишь однажды на каникулах я тоже отправился в путешествие. Мне было четырнадцать лет, и, по совету врачей, меня послали лечиться в Энтлебух, в надежде, что мое здоровье укрепится, а аппетит улучшится. Здесь я впервые оказался один среди незнакомых взрослых людей. Меня поселили в доме католического священника, что я воспринял как чуточку опасное увлекательное приключение. Но самого священника я видел редко и мельком, а его домоправитель оказался совсем не страшным, хотя часто бывал грубоват. Итак, ничего ужасного не произошло. За мной приглядывал старый деревенский врач, под чьим присмотром находился своего рода санаторий для выздоравливающих. Здесь собралась весьма разношерстная публика: фермеры, мелкие чиновники, торговцы и несколько образованных людей из Базеля, среди которых был ученый-химик. Мне он казался небожителем, поскольку имел докторскую степень. Мой отец тоже был доктором, но в лингвистике. Химик же был для меня человеком из другого, неведомого мне мира, одним из тех кто, может быть, понимал секреты камней. Этот еще молодой человек учил меня играть в крокет, но не передал мне ничего из своих (предположительно обширных) знаний. Я же из-за своей чрезмерной пугливости, неуклюжести и невежественности не мог расспросить его как следует. Он внушал мне почтение, будучи первым живым человеком из когда-либо встреченных мной, посвященным в тайны природы (по крайней мере в некоторые из них). Он сидел со мной за одним столом, ел то же, что и я, иногда мы обменивались несколькими словами. Я чувствовал себя вознесенным в некие высокие сферы взрослой жизни, но окончательно "посвященным" ощутил себя лишь тогда, когда мне позволили наравне со всеми принимать участие в пикниках для отдыхающих. В один из таких вечеров мы посетили винокуренный завод, где нам предложили отведать его продукцию, причем в буквальном соответствии с известными строками:
Nun aber naht sich das Malor
Denn dies Getranke ist Likor…
[Сейчас, однако, произойдет конфуз, поскольку данный напиток — это ликер… (нем.)]
Я после нескольких рюмок пришел в такой экстаз, что вдруг ощутил себя в совершенно новом и неожиданном для себя состоянии. Не было больше разделения на внешнее и внутреннее, не было больше "я" и "они", "номер 1" и "номер 2" больше не существовали. Настороженность и стеснительность исчезли, земля и небо, вселенная и все, что в ней ползает, летает, вращается, падает и взлетает, — все слилось воедино. Я был неприлично, чудесно и восхитительно пьян. Я словно погрузился в океан блаженных грез, но из-за сильной качки вынужден был взглядом, руками и ногами цепляться за все твердые предметы, чтобы сохранить равновесие перед качающимися лицами на качающихся улицах среди покачивающихся домов и деревьев. "Превосходно, — радовался я, только, кажется, немного чересчур". Опыт закончился печально горьким похмельем. Тем не менее я чувствовал, что мне открылись смысл и красота, вот только я сам все безнадежно испортил своей глупостью.
К концу моего пребывания в Этленбухе приехал отец, и мы отправились к озеру Люцерн, где — о счастье! — сели на пароход. Мне никогда в жизни еще не доводилось видеть что-либо подобное. Я стоял, не сводя глаз с работающей паровой машины, когда вдруг сообщили, что мы уже прибыли в Витцнау. Над городом высилась большая гора, отец объяснил мне, что это Риги и что на вершину ее можно подняться на специальном поезде. Мы подошли к маленькому зданию станции, возле которого стоял самый удивительный локомотив в мире, с каким-то "неправильным" паровым котлом, расположенным не вертикально, а под необычным углом. Даже сидения в вагонах были наклоненными. Отец вложил мне в руку билет и сказал: "Ты можешь ехать на вершину один. Я останусь здесь, для нас двоих это слишком дорого. Будь осторожен и не свались где-нибудь".
От счастья я не мог произнести ни слова. Я находился у подножья величественной горы, самой высокой из всех виденных мною, совсем близко от тех пылающих горных вершин, о которых мечтал много лет назад. Теперь я уже почти мужчина. Для этого путешествия я приобрел бамбуковую трость и английскую жокейскую кепку — как положено настоящему путешественнику, — и сейчас поднимусь на эту гору. В этот момент я не мог разобраться, кто же больше — я или гора. Выпустив густые кольца дыма, чудесный локомотив дрогнул и, постукивая, повлек меня к головокружительным вершинам. Все новые и новые пропасти и дали открывались перед мною, пока наконец мы не остановились наверху, где воздух был необыкновенно прозрачен, а вид сказочно прекрасен. "Да, — думалось мне, — это и есть настоящий, тайный мир, в котором нет ни школ, ни учителей, ни неразрешимых вопросов, — в нем просто нет вопросов". Я ходил по тропинкам осторожно, чтобы не сорваться с какого-нибудь из многочисленных обрывов. Все вокруг было преисполнено величавой торжественности, и я чувствовал, что здесь должно быть почтительным и молчаливым — в этом Божьем мире. Эта поездка была самым лучшим и ценным подарком из всего, что когда-либо дарил мне отец.
Впечатление было столь сильным, что затмило в моей памяти последующие годы. Но и "номер 1" тоже получил свое во время этого путешествия: его впечатления сохранились у меня на всю жизнь. Я и сейчас все еще вижу себя такого взрослого и независимого, в жестком черном кепи с тросточкой. Я сижу на террасе одного из роскошных отелей, у озера Люцерн или в прекрасных садах Витцнау, пью утренний кофе с круассанами за маленьким, застланным белоснежной скатертью столом под полосатым навесом, сквозь который просвечивает солнце, — я обдумываю, чем бы заполнить этот длинный летний день. После кофе я обычно спокойно и неторопливо шел к пароходу, который отвозил меня к подножию тех самых гор с пылающими ледниковыми вершинами.
Многие десятилетия этот образ вставал у меня перед глазами, когда я уставал от работы и пытался немного рассеяться. В реальной жизни я обещал себе это великолепие снова и снова, но не смог сдержать обещания.
После этого первого сознательного путешествия последовало второе, год или два спустя. Отец отдыхал в Захсельне, и я навестил его; он рассказал, что подружился там с католическим священником. Это показалось мне исключительно мужественным поступком, и втайне я восхищался храбростью отца. Тогда же я побывал во Флюэ, в убежище св. брата Клауса, где находились его мощи. Меня очень интересовало, откуда католики узнали, что он был святым. Может быть, он все еще бродил где-то поблизости и сообщил об этом людям? Genius loci (дух места. — лат.) подействовал на меня так сильно, что я смог не только представить саму возможность жизни, столь беззаветно посвященной Богу, но даже, не без внутреннего содрогания, понять ее. Однако у меня возник еще один вопрос: как жена и дети могли терпеть такого святого мужа и отца, ведь именно слабости моего отца были источником моей любви к нему? Ответа у меня не было. "Да, — рассуждал я мысленно, — кому под силу жить со святым? Наверное, он сам понял, что это невозможно, и потому стал отшельником. Однако келья его находилась недалеко от дома, — эта мысль показалась мне удачной. Очень разумно в одном доме иметь семью, а жить на некотором расстоянии в хижине, с грудой книг и письменным столом. Я жарил бы каштаны и готовил на очаге суп, поставив его на треножник. Как святой отшельник, я мог бы больше не ходить в церковь, зато имел бы свою личную часовню.
В задумчивости я поднялся на холм и уже собирался возвращаться, когда слева появилась тоненькая девичья фигурка, в местном наряде. Эта была девушка, приблизительно моего возраста, с миловидным лицом и голубыми глазами. Мы вместе спустились в долину — так, будто это было для меня самым обычным делом. Прежде я не знал никаких других девушек, кроме моих кузин, и смущался, не зная, как с ней говорить. Запинаясь, я начал объяснять, что приехал сюда на несколько дней отдохнуть, что учусь в гимназии в Базеле и хочу потом поступить в университет. Когда я говорил, мною овладело странное чувство "предопределенности" этой встречи. "Она появилась именно в этот момент, — думал я про себя, — и идет со мной так естественно, как будто мы принадлежим друг другу". Взглянув в ее сторону, я увидел на ее лице смесь испуга и восхищения и смутился. Неужели это судьба? Или наша встреча простая случайность? Крестьянская девушка — возможно ли это? Она католичка, но, может быть, посещает того самого духовника, с которым подружился мой отец? Она понятия не имеет, кто я, и мы, конечно, не сможем беседовать с ней о Шопенгауэре и отрицании Воли. Но ведь в ней нет ничего зловещего. Может быть, ее духовник не похож на того иезуита — моего "черного человека". И все же я не мог открыть ей, что мой отец — лютеранский пастор, это могло ее испугать или смутить. А говорить с ней о философии или дьяволе, который значит гораздо больше, чем Фауст, хотя Гете и сделал из него простака, было совершенно невозможно. Она ведь еще обитает в уже далекой от меня счастливой стране неведения, тогда как я уже познал реальность, во всей ее жестокости и великолепии. По силам ли ей такое вынести! Между нами стояла непроницаемая стена.