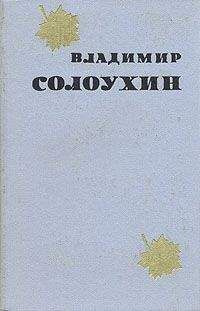Она появляется стильно, по традиции ближе к концу вечеринки. Модное платье, только до колен. Туфли на каблуке, не слишком высоком, но хорошо демонстрирующем её ножки. Как принцесса, она спускается по лестнице. Все смотрят.
Когда она уже почти спустилась, к ней подлетает отец и даёт такую сильную пощёчину, что она падает с лестницы, пропустив несколько последних ступенек.
Шлюха! Иди сейчас же в свою комнату и надень приличное платье!
Она лежит на полу, шокированная, смущённая, униженная, с задранным вверх платьем. В мгновение ока из величавой принцессы она превратилась в убогую шлюху, лежащую там перед всеми.
Теперь в ней надламывается не только ребёнок, но и женщина. На всю оставшуюся жизнь.
Она возвращается в здесь и сейчас, в смятении, внезапно всё понимая. Она не хочет больше разговаривать. Она меня благодарит, и просто хочет уйти.
В сумерках поместье кажется опустевшим и мрачным. Ещё нет и четырёх, а кажется, что уже ночь — такое тёмное небо.
Примерно через год я снова в этой стране. Я просматриваю список сессий, по три в день. Последний в этот день — та самая секретарша. Она бодра, жизнерадостна, и, по её словам, ей совершенно не нужна терапия. Она пришла только для того, чтобы рассказать свою историю. Я цитирую её по памяти.
Когда в тот воскресный вечер я ехала домой, начался настоящий ливень. Дождь лил так сильно, что видимость была всего несколько метров. Обычно дорога домой занимает два часа, но в тот раз заняла все четыре. Я и так далеко не суперводитель даже при самых благоприятных обстоятельствах, а тогда мне приходилось так пристально вглядываться в дорогу, что я ни на мгновение не могла задуматься о нашей сессии.
Я отвезла подругу домой, поставила машину на парковку, поднялась на лифте, вышла на своём этаже и достала ключи. И тогда, в одно мгновение, сессия меня настигла. Я вставила ключ в замок с ощущением, что время остановилось, и я знала: моя жизнь никогда не будет прежней. Я изменилась.
Я вхожу и вижу свою квартиру. Это очень большая квартира, даже слишком большая для одинокой женщины вроде меня. Всё тёмное — стены, мебель. Вся эта мебель унаследована от родителей и от других родственников. И я осознаю, что это не моя квартира, что это квартира умерших, и что я живу там, среди них, как полумёртвая. И я решаю, что избавлюсь от всего, что мне не нравится, и перекрашу всю квартиру в очень светлый цвет. В такой, какой я сейчас себя ощущаю. Такой, какая я есть, хотя я никогда раньше этого не осознавала.
По совпадению — а может, не случайно — всего через пару дней освобождается квартира этажом выше. Я снимаю её на несколько месяцев, беру то немногое, что хочу оставить, и говорю родным, что те могут забрать из квартиры внизу всё, что захотят, а остальное пойдёт на благотворительность. Мои родственники думают, что я сошла с ума, но я-то знаю, что к чему. Это они сошли с ума, сами того не зная, и я была одной из них. Но не теперь.
После того, как квартира была полностью убрана и отремонтирована, я туда вернулась и заново обставила её светлой современной мебелью.
Я по-прежнему предпочитаю избегать часы пик, но страха больше нет. Те выходные в прошлом году и та сессия — лучшее, что когда-либо со мной случалось. Вот деньги за эту сессию.
Я говорю, что не могу взять деньги за сессию всего в полчаса. Я лишь полчаса слушал и ничего не делал. Она с лёгкостью отклоняет мои возражения:
Я просто хотела рассказать вам свою историю.
Можете добавить меня на свою витрину.
Что я здесь и делаю, хотя и с запозданием.
Что бы мы, как регрессионные терапевты ни делали, мы не делаем это сами. В душах наших клиентов происходит больше, чем мы в состоянии увидеть или даже представить. Это совместное предприятие. Мы проделываем лишь половину работы. И в случаях, подобных описанному выше, — меньше половины.
И сами на этом учимся. Наш взгляд становится острее, а суждения — мягче. И подумать только, что это будет продолжаться и продолжаться!
История вторая
Рождённый в панике
Он полицейский. Далеко за пятьдесят, типичный мужчина из Брабанта, католического юга Нидерландов, с его особенным протяжным говором. Надёжный, добрый, даже мягкий. Но внешность обманчива, говорит он.
Когда он на службе, у него появляются странные, нездоровые мысли.
Если я сейчас на полной скорости въеду на тротуар, то вот те двое мужчин и та женщина мгновенно умрут. Если я позволю машине въехать вон в то дерево, то мгновенно умру.
Он сосуд, полный скрытой агрессии. Он боится, что с ним что-то не так. Он беспокоится, сильно беспокоится. Откуда берутся эти нездоровые мысли? Он что, садист? Или мазохист? Или, может быть, и то, и другое?
Что он чувствует прямо сейчас, когда об этом говорит?
Напряжение.
Просто пойдите назад в тот момент, когда вы первый раз чувствовали это напряжение.
Ему три года, и он гуляет с мамой и папой вдоль пруда. На болотистом берегу лежит упавшее дерево. Отец на нём балансирует, и матери это очень не нравится. Он вот-вот угодит в грязь в воскресном костюме! К этому месту приближаются другие гуляющие. Скоро они увидят, как он выставляет себя дураком! Может, он поскользнётся прямо в тот момент, когда они подойдут! Матери стыдно до смерти. Она шипит, вся взвинченная, что он должен немедленно сойти с этого бревна. Теперь уже его отец злится на жену. Сын чувствует это едва сдерживаемое напряжение между отцом и матерью. Он ощущает чувство паники и тоже становится напряжённым.
Но гуляющие проходят мимо, и ничего не происходит. И только настроение к тому времени изрядно испорчено. Когда они идут дальше, мать слишком сильно сжимает его руку. Мальчику больно, но он не осмеливается что-то сказать или заплакать.
Я пытаюсь выудить из этой ситуации как можно больше, ищу заложенный постулат[2], но не могу найти ничего, кроме того, что такое напряжение между его родителями в то время не было чем-то необычным.
Какой-нибудь более поздний опыт этого напряжения? Это тоже ни к чему не приводит. Тогда я иду другим путём: к более раннему опыту напряжения. И тогда мы попадаем в яблочко.
Он получает впечатления о своём рождении. Он слышал об этом рассказы. Младенец застрял, его мать теряла много крови. Акушерка в панике, мать в панике, отец, — все в панике. В опасности жизнь и матери, и ребёнка. Затем, наконец, приходит доктор, которого вызвали. Он тоже встревожен, ругается и начинает паниковать. Роды длились четыре часа, и он и его мать едва выжили.
Пока он об этом рассказывает, его тело начинает прогибаться назад, и вот он уже лежит на диване, с выгнутой спиной, со слезами напряжения и боли на глазах.
Никогда прежде — и никогда после этого — я не боялся, что соматика[3] сессии может нанести вред, но на этот раз я уже не был так уверен. На мгновение я испугался, что он и в самом деле переломит себе спину.
Я чередую «Прочувствуй всё» с «Высвободи всё напряжение этого опыта из своего тела прямо сейчас; отпускай, отпускай».
Он закатывает глаза и стонет, что ощущает это во всём теле. Младенец, по-видимому, засел плечом за лобковой костью матери, и его рука застряла. Он так напряжён, что становится совершенно негибким и застревает. Дюйм за дюймом его нынешнее тело движется по дивану назад, соскальзывая с него. Я, насколько могу, стараюсь его поймать.
На полу его скованное тело с прогнутой спиной продолжает двигаться, дюйм за дюймом. Он потеет. Он выбивается из сил, и затем обмякает. Он расслабляется, и ему нужно в уборную. На этот момент наша сессия длится более полутора часов. Когда он возвращается, то рассказывает о процессе своего рождения немного больше, о чём знает из рассказов.
О боже, опять начинается!
Тело берёт своё, и напряжение возвращается в полную силу. На этот раз он позволяет себе сразу рухнуть на пол. У меня большой кабинет, в котором можно проводить даже групповые занятия, и его медленное движение по полу начинается снова.