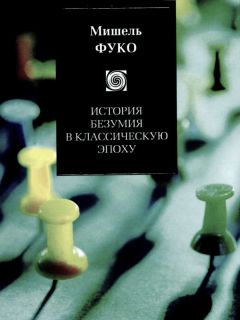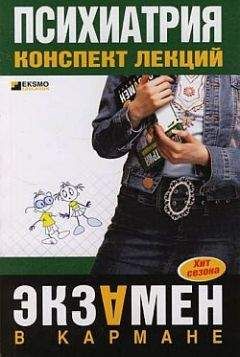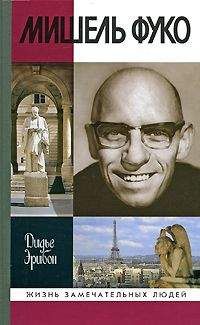со времен Гиппарха весеннее равноденствие сместилось в силу прецессии, по меньшей мере, к началу Рыб.
Субъективность первобытного человека столь удивительна, что самым первым предположением должно было бы быть выведение мифов из его душевной жизни. Познание природы сводится для него, по существу, к языку и внешним проявлениям бессознательных душевных процессов. Их бессознательность представляет собой причину того, что при объяснении мифов обращались к чему угодно, только не к душе. Недоступным пониманию было то, что душа содержит в себе все те образы, из которых ведут свое происхождение мифы, что наше бессознательное является действующим. Оно ведет пассивное существование и является претерпевающим действия субъектом, драму которого первобытный человек по аналогии обнаруживал в больших и малых природных процессах.
«В твоей груди звезды твоей судьбы», – говорит Зени Валленштейну, чем и довольствовалась вся астрология, когда лишь немногие знали об этой тайне сердца. Тогда не было достаточного ее понимания, и я не решусь утверждать, что и сегодня что-либо принципиально изменилось в лучшую сторону.
Родоплеменные учения священно-опасны. Все тайные учения пытаются уловить невидимые душевные события, и все они претендуют на высший авторитет. Это еще в большей мере верно по отношению к господствующим мировым религиям. Они содержат изначально тайное сокровенное знание и выражают тайны души с помощью величественных образов. Их храмы и священные писания возвещают в образе и слове освященные древностью учения, сочетающие в себе одновременно религиозное чувство, созерцание и мысль. Необходимо отметить, что чем прекраснее, грандиознее, обширнее становится этот передаваемый традицией образ, тем дальше он от индивидуального опыта. Что-то еще чувствуется, воспринимается нами, но изначальный опыт потерян…
Почему психология является самой молодой опытной наукой? Почему бессознательное не было давно уже открыто, а его сокровища представали только в виде этих вечных образов? Именно потому, что для всего душевного имеются религиозные формулы, причем намного более прекрасные и всеохватывающие, чем непосредственный опыт. Если для многих христианское миросозерцание поблекло, то сокровищницы символов Востока все еще полны чудес. Любопытство и желание получить новые наряды уже приблизили нас к ним, причем эти образы, будь они христианскими, буддистскими или еще какими-нибудь, являются прекрасными, таинственными, пророческими. Конечно, чем привычнее они для нас, чем более они стерты повседневным употреблением, тем чаще от них остается банальная внешняя сторона и почти лишенная смысла парадоксальность. Таинство непорочного зачатия, единосущность Отца и Сына или Троица, не являющаяся просто триадой, не окрыляют более философскую фантазию. Они стали просто предметом веры. Неудивительно потому, что религиозная потребность, стремление к осмыслению веры, философская спекуляция влекут образованных европейцев к восточной символике, к грандиозным истолкованиям божественного в Индии и к безднам философии даосов Китая. Подобным образом чувство и дух античного человека были захвачены в свое время христианскими идеями. И сейчас немало тех, кто поначалу поддается влиянию христианских символов, пока у них не вырабатывается кьеркегоровский невроз. Или же их отношение к Богу, вследствие нарастающего обеднения символики, сводится к обостренному до невозможности отношению «Я-Ты», чтобы затем не устоять перед соблазном волшебной свежести необычайных восточных символов. Искушение такого рода не обязательно оканчивается провалом, но может привести к открытости и жизненности религиозного восприятия.
Мы наблюдаем нечто сходное у образованных представителей Востока, которые нередко выказывают завидное понимание христианских символов и столь неадекватной восточному духу европейской науки. Тяга к вечным образам нормальна, для того они и существуют. Они должны привлекать, убеждать, очаровывать, потрясать. Они созданы из материала откровения и отображают первоначальный опыт божества. Они открывают человеку путь к пониманию божественного и одновременно предохраняют от непосредственного с ним соприкосновения. Благодаря тысячелетним усилиям человеческого духа эти образы уложены во все охватывающую систему мыслей, стремящуюся найти порядок в мире, но эти образы представляются в то же самое время в виде могущественного, обширного, издревле почитаемого института, каковым является Церковь.
* * *
Лучше всего можно проиллюстрировать это на примере одного швейцарского мистика и затворника, недавно канонизированного брата Николая из Флюэ, важнейшим переживанием которого было так называемое видение троичности. Оно настолько занимало его, что было изображено им, по его просьбе, другом на стене кельи. В приходской церкви Заксельна сохранилось изображение видения, созданное тогдашним художником. Это разделенная на шесть частей мандала, в центре которой находится коронованный нерукотворный образ. Нам известно, что брат Николай пытался показать сущность своего видения с помощью иллюстрированной книжки какого-то немецкого мистика и неустанно трудился над тем, чтобы придать своему первопереживанию удобопонимаемую форму. На протяжении многих лет он занимался именно тем, что я называю переработкой символа. На размышления брата Николая о сущности видения повлияли мистические диаграммы его духовных руководителей. Поэтому он пришел к выводу, что он, должно быть, увидел саму святую Троицу, саму вечную любовь. Такому истолкованию соответствует и вышеуказанное изображение в Заксельне.
Первопереживание брата Николая, однако, было совсем иным. Он был настолько восхищен им, что сам вид его стал страшен окружающим: изменилось его лицо, да так, что от него стали отшатываться, его стали бояться. Увиденное им обладало невероятной интенсивностью. Об этом пишет Вёльфлин: «Все, приходившие к нему, с первого взгляда преисполнялись жуткого страха. О причине этого страха он сам говорил, что видел пронизывающий свет, представленный человеческим ликом. Видение было столь устрашающим, что он боялся, как бы сердце не разорвалось на мельчайшие части. Поэтому-то у него, оглушенного ужасом и поверженного на землю, изменился и собственный вид, и стал он для других страшен».
Были все основания для установления связи между этим видением и апокалиптическим образом Христа (Апок., 1:13), который по своей жуткой необычности превзойден лишь чудовищным семиглазым агнцем с семью рогами (Апок., 5:6).
Видение брата Николая уже в его время стало истолковываться особым образом. В 1508 г. гуманист Карл Бовиллиус писал своему другу: «Я хотел бы исправить тот лик, который привиделся ему на небе в звездную ночь, когда он предавался молитве и созерцанию. А именно – человеческий лик с устрашающим видом, полным гнева и угрозы» и т. д. Это истолкование вполне соответствует современной амплификации, [43] приведенной в Новом Завете (Апок., 1:13). (Не нужно забывать и о других видениях Николая, например, Христа в медвежьей шкуре, Господа и его жены с братом Николаем как сыном и т. п. В значительной своей части они показывают столь же далекие от догматики черты).
«Зверь, вышедший из моря, с семью головами и десятью рогами». Matthias Gerung (1500–1570 гг.)
С этим великим видением традиционно связывается образ Троицы в заксельнской церкви, а также символ круга в так называемом «Трактате паломника»: брат Николай показал