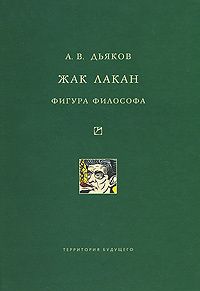Когда я говорю о Хайдеггере, а точнее — перевожу его, я стараюсь вернуть произнесенному им слову его суверенное значение.
И говоря о букве и бытии, или различая другого и Другого, я делаю это потому, что Фрейд указывает на них как на термины, к которым как раз и относятся те явления сопротивления и переноса, с которыми я меряюсь силами вот уже двадцать лет, с тех пор как взялся за невозможное — как жалуются все, вслед за его основателем — дело психоанализа. И еще потому, что чувствую себя обязанным помочь другим в этом разобраться.
Я хотел бы не дать зарасти плевелами унаследованному ими полю и донести до их сознания, что слова «симптом есть метафора» сами метафорой отнюдь не являются, как не является ей и утверждение, что желание человека есть метонимия. Ведь хотим мы себе в этом сознаться или нет, но симптом — это действительно метафора, и шутки шутками, а желание — это и в самом деле метонимия.
И еще: желая возбудить в вас негодование по поводу того, что после стольких веков религиозного лицемерия и философского бахвальства ничего сколь-нибудь членораздельного о связи метафоры с вопросом о бытии и метонимии с отсутствием бытия сказано не было, мне все-таки никак не обойтись без того, чтобы хоть что-то от объекта этого негодования — в смысле его причины и его жертвы одновременно — еще существовало и могло дать ответ за него; не обойтись, одним словом, без человека гуманистической формации и безнадежно опротестованного векселя, выписанного им в счет своих добрых намерений.
14–16 мая 1957 г.
С содержанием настоящей статьи перекликается наше выступление на заседании философского общества 23 апреля 1960 года по поводу доклада Перельмана, посвященного теории метафоры как риторической функции, развитой им в работе «Теория аргументации».
О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психоза
Hoc quod triginta tres per annos in ipso loco studui, et Sanctae Annae Genio loci, et dilectae juventuti, quae eo me setata est, diligenter dedico.
Статья эта содержит самое существенное из того, чему были посвящены первые два триместра нашего семинара за 1955-56 гг.: содержание третьего выходит, т. о., за ее рамки. Опубликована в т. 4 журнала Psychanalyse.
1. Несмотря на, что психоз изучается в свете теории Фрейда уже полвека, проблему его стоит осмыслить заново, то есть in statu quoante.
До Фрейда обсуждение проблемы психоза всецело протекало на той теоретической почве, которая претендует на звание психологии и представляет собой не что иное, как «секуляризованный» осадок, полученный продолжительной метафизической варкой науки в посудине Школы (Школу мы пишем с большой Ш, свидетельствуя ей тем самым наше почтение).
Но если в том, что касается physis, природы, наука наша, с ее все более полной математизацией, отдает этой кухней столь слабо, что мы вправе спросить себя, не произошла ли подмена ипостаси, то относительно antiphysis (т. е. живого аппарата, который считает способным об этой physis судить), чей прогорклый запах не оставляет сомнений в том, что в упомянутой кухне для приготовления мозгов она жарилась веками, этого никак не скажешь.
Так и получилось, что теория абстракции, необходимая нам, чтобы дать себе отчет в таком явлении как познание, застыла в ту абстрактную теорию способностей субъекта, которую даже самые радикальные сенсуалистические требования не смогли сделать в отношении к эффектам субъективности более функциональной.
Постоянно повторяющиеся попытки скорректировать ее результаты, регулируя противовес аффекта, обречены на неудачу до тех пор, пока замалчивается вопрос о том, тот ли самый субъект этот аффект испытывает.
2. На скамье школы (с маленькой ш) этот вопрос учат исключать раз и навсегда. Даже допуская чередования в идентичности percipiens, его функцию по конституированию единства perceptum'-a, сомнению не подвергают. Поэтому разнообразие в структуре perceptum'а дает на уровне percipiens'a лишь разнообразие регистров — в конечном счете, как показывает анализ, разнообразие sensorium'ов. Покуда percipiens соответствует реальности, разнообразие это, в принципе, всегда можно преодолеть.
Вот почему люди, обязанные ответить на вопрос, который ставит перед нами существование сумасшедшего, не нашли ничего лучше как заслониться от него пресловутой школьной скамьей, стена которой показалась им в данном случае самым подходящим укрытием.
Все позиции, независимо от того, рассматривают ли они материю механистически или динамически, приписывают ли они развитие организму или психизму, говорят ли о структуре дезинтеграции или структуре конфликта, — да, именно все, какими бы хитроумными они ни выглядели, — мы смело отвергаем с порога уже потому, что во имя факта — вполне очевидного — что галлюцинация представляет собой perceptum без объекта, все эти позиции стремятся потребовать объяснений этого факта у percipiens данного perceptum'a, совершенно не отдавая себе отчета в том, что требуя этого, они совершают скачок во времени, пропуская тот временный интервал, который необходим им, чтобы поинтересоваться тем, позволяет ли сам perceptum однозначно истолковать тот percipiens, — который призван здесь его объяснить.
Тем не менее существование этого промежутка времени должно показаться всякому непредвзятому анализу вербальной галлюцинации вполне законным, ибо, как мы в дальнейшем увидим, галлюцинация эта не сводима ни к какому-то особому sensorium'y, ни тем более K percipiens как пресловутому началу ее единства.
Приписывать галлюцинации слуховую природу безусловно ошибочно, ибо можно представить себе предельную ситуацию, где она слуховой ни в малейшей степени не является (например, у глухонемого, или в каком-либо не слуховом регистре галлюцинаторного чтения по складам). К тому же, одно дело акт слушания, улавливающий связность словесной цепочки, т. е. ее сверхдетерминацию задним числом в каждый момент ее последовательности, с одной стороны, и возникающую в каждый момент времени неопределенность значения, предваряющую явление всегда готового вновь удалиться смысла, с другой, — и совсем иное дело акт слушания, настроенный на звуковую модуляцию речи с целью того или иного рода акустического анализа — тонического либо фонетического — или же для оценки ее музыкального воздействия.
Этих кратких напоминаний довольно, чтобы подчеркнуть то значение, которое имеет различие между заинтересованными в восприятии perceptum'а субъективностями (а заодно и то, насколько игнорируется это различие при опросе больных и в нозологии «голосов»).
Можно, однако, попытаться свести это различие к уровню объективации в percipiens.
Но попытка эта обречена на неудачу. Ибо все парадоксы, жертвой которых субъект в этом необычном виде восприятия оказывается, обнаруживаются в нем лишь на уровне, где субъективный «синтез» сообщает речи полноту своего смысла. То, что парадоксы эти проявляются уже тогда, когда речь ведет другой, достаточно хорошо подтверждается тем, что в той мере, в которой речь эта завладевает слухом субъекта и его настораживает, он способен этой речи повиноваться. Ведь стоит субъекту уловить ее, как он немедленно поддается внушению, избежать которого удается лишь сведя другого к роли глашатая чужого, не принадлежащего этому другому, дискурса или тайного, сознательно скрываемого намерения.
Но еще более поразительно отношение субъекта к своей собственной речи, самое важное в котором маскируется тем чисто акустическим фактом, что он не может говорить, себя не слыша.
То, что мы не можем слушать себя, при этом не разделяясь в себе, также не является в поведении сознания чем-то привилегированным. Клиницисты сделали важный шаг вперед, открыв мышечно-двигательную словесную галлюцинацию благодаря обнаружению едва заметных артикуляционных движений. Но суть дела они, тем не менее, сформулировать так и не сумели. Дело в том, что если sensorium сам по себе для произведения означающей цепочки безразличен, то:
1. цепочка эта сама навязывает себя субъекту в измерении голоса;
2. она приобретает собственную реальность, пропорциональную времени (отлично наблюдаемому на опыте), которое нужно для его субъективной аттрибуции;
3. его собственная структура как означающего является определяющей в этой аттрибуции, которая оказывается, как правило, дистрибутивной, т. е. включающей несколько голосов, что бросает тень двусмысленности на само, считающееся источником единства, percipiens.
3. Сказанное мы хотим проиллюстрировать феноменом из нашей клинической практики 1955-56 гг., т. е. одновременной тому самому семинару, на материал которого мы здесь опираемся. Отметим, что подобная находка дается лишь ценой полного, хотя и настороженного подчинения чисто субъективным представлениям больного — представлениям, которые слишком часто насилуют, приписывая их в разговоре с пациентом исключительно болезненным процессам, что, конечно же, затрудняет проникновение в них, провоцируя в субъекте небезосновательное умолчание.