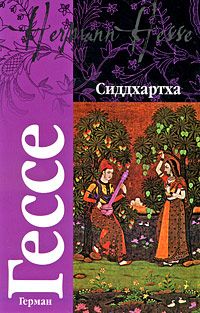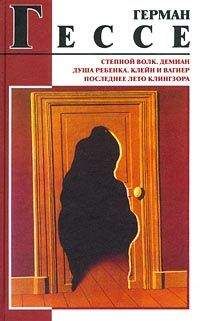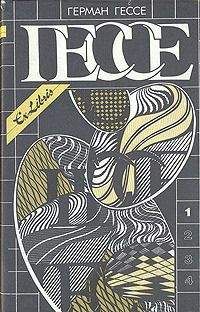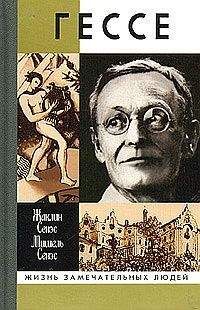— Это я понимаю, — сказал Говинда. — Но именно это он, Возвышенный, определял как обман. Он завещал дружелюбие, сострадание, терпимость — но не любовь, он запрещал нам сковывать наши сердца любовью к земному.
— Я знаю это, — сказал Сиддхартха, на губах его играла усмешка. — Я знаю это, Говинда. И смотри-ка, вот мы уже в дебрях мнений, спорим о словах. Ведь я не могу отрицать, мои слова о любви противоречат, явно противоречат словам Готамы. Вот почему я так не доверяю словам, ведь я знаю: противоречие это кажущееся. Я знаю, что мы с Готамой едины. Да и как же мог он не знать любви — Он, до конца познавший бренность и ничтожность человеческого и, несмотря на это, так любивший людей, что употребил всю свою долгую, трудную жизнь только на то, чтобы помогать им, учить их! И у него, у твоего великого учителя, вещи важнее слов, его дела и жизнь важнее его речей, движения его руки важнее его мнений. Не в речах, не в мыслях вижу я его величие — лишь в делах, в жизни.
Долго молчали два старых человека. Потом, склонясь в прощальном приветствии, Говинда сказал:
— Я благодарю тебя, Сиддхартха, за то, что ты поведал мне кое-что из твоих мыслей. Мысли эти отчасти необычны, не все они стали мне сразу понятны. Но как бы то ни было, я благодарю тебя, и я желаю тебе спокойных дней.
(А про себя, тайком он подумал: “Удивительный человек этот Сиддхартха, странные мысли он высказывает, глупым кажется его учение. Иначе звучит чистое учение Возвышенного — яснее, проще, понятнее, ничего странного, чудного или смешного в нем нет. Но совсем иначе, чем мысли Сиддхартхи, действуют на меня его руки и ноги, его глаза, его лоб, его дыхание, его усмешка, и приветствие, и походка. Никогда — с тех пор, как наш возвышенный Готама вошел в нирвану — никогда больше не встречал я такого человека, который бы внушил мне чувство: это-святой! А а вот он, этот Сиддхартха — такой.
Пусть учение его странно, пусть слова звучат чудно, но его взгляд и его рука, его кожа и его волосы — все в нем излучает какую-то чистоту, излучает покой, излучает ясность, и мягкость, и святость, какой ни у одного человека со времени последней смерти нашего возвышенного Учителя я не видел”.)
И в то время, когда Говинда думал так, в то время, как шла борьба в его сердце, поклонился он еще раз Сиддхартхе, движимый любовью. Низко склонился он перед сидящим.
— Сиддхартха, — сказал он, — мы стали стариками. Едва ли один из нас еще увидит другого в этом обличье. Я вижу, мой дорогой, ты нашел мир. Я признаюсь: я не нашел его. Скажи мне, высокочтимый, еще несколько слов, дай мне унести что-нибудь, что я мог бы охватить, что я смог бы понять! Дай же что-нибудь мне в дорогу. Она часто трудна, моя дорога, и часто темна, Сиддхартха.
Сиддхартха молчал и смотрел на него все с той же спокойной усмешкой на губах. Неотрывно смотрел Говинда в его лицо, смотрел со страхом, с ожиданием; мука и вечное искание были в его взгляде — и вечное ненахождение.
Сиддхартха видел, понимал и усмехался.
— Наклонись ко мне! — прошептал он. — Наклонись ко мне! Так, еще ближе! Совсем близко! Коснись губами моего лба, Говинда!
И когда Говинда, удивленный, но увлекаемый любовью и предчувствием, послушался, наклонился к нему и коснулся его лба губами, с ним случилось что-то удивительное.
Его мысли еще плутали среди странных слов Сиддхартхи, он все еще пытался — тщетно и недовольно — сбросить оковы времени и представить себе нирвану и сансару как одно, в нем еще боролось некоторое даже презрение к словам друга с огромной любовью и почтением, — в это самое время вот что случилось с ним.
Он не видел больше лица своего друга Сиддхартхи, вместо него он видел другие лица, много, длинный ряд, целую реку из сотен, тысяч лиц, они приближались и исчезали, но, казалось, все время все вместе были здесь, они беспрерывно менялись и обновлялись и в то же время все были похожи на Сиддхартху. Он видел рыбью морду с раскрытым в страшном приступе удушья ртом — умирающего карпа с выпученными глазами… он видел лицо новорожденного ребенка, красное, все в складках, сморщенное, перед криком… видел лицо убийцы, видел, как тот вонзает в человеческое тело, — и в ту же самую секунду видел этого преступника в цепях, стоящим на коленях, и его голову тяжелым ударом меча отрубал палач… он видел нагие тела мужчин и женщин, сплетенные, стиснутые в неистовых оргиях любви… он видел распростертые трупы, неподвижные, холодные, пустые… он видел птичьи головы и звериные морды — кабанов, быков, крокодилов… он видел богов, видел Кришну, видел Агни, — он видел эти лица, эти обличья в тысячах сочетаний, они помогали друг другу, любили, ненавидели, уничтожали и вновь рождали друг друга — и в каждом было движение к смерти, страстное, мучительное признание бренности существования, но ничто не умирало, а лишь испытывало превращения, вновь и вновь рождалось, обретало все новые лица, — и между ними не было промежутка, и все эти лица и фигуры покоились, текли, создавали себя, расплывались и переходили друг в друга, и надо всем постоянно плыло что-то тонкое, бестелесное, но постоянно присутствовавшее, будто стекло или тонкий лед, будто прозрачная кожа, или чаша, или купол, или маска, сотканная из воды, и эта маска усмехалась, и эта маска была усмехающимся лицом Сиддхартхи, которого он, Говинда, в этот самый миг касался губами. И тогда увидел Говинда, что эта усмешка маски, эта усмешка единства над потоком обличий, эта усмешка одновременности над тысячью рождений и смертей, эта усмешка Сиддхартхи была точно такой же, была в точности та же тихая, непроницаемая — быть может, добродушная, быть может, насмешливая, — мудрая, лучащаяся тысячью морщинок усмешка Готамы, Будды, — усмешка, которую он сотни раз благоговейно созерцал. Говинда знал: так улыбаются Совершенные.
Уже не ощущая времени, не зная, секунду или столетие длилось это видение, не зная, Сиддхартха ли это, Готама ли, он ли это сам, будто пораженный божьей стрелой, ощущая в душе сладкую рану, очарованный, и опустошенный, и обтекаемый временем стоял Говинда наклонившись над светлым лицом Сиддхартхи, которого только что касался губами, которое только что было сценой всех образов и всех превращений, сценой бытия… Тысячеликая бездна сомкнулась, и не было перемены в лице Сиддхартхи. Он усмехался — спокойно, светло и мягко, быть может очень добродушно, быть может очень насмешливо, точно так же, как раньше.
Низко поклонился Говинда; слезы, он не чувствовал, бежали по его старому лицу, огнем горело в его сердце чувство глубокой любви и самого смиренного почтения. Низко, до самой земли, поклонился он неподвижно сидевшему человеку, чья усмешка напомнила ему все, что он когда-то любил, все, что имело в его жизни цену и было для него свято.
Герман Гессе, 1919-1921