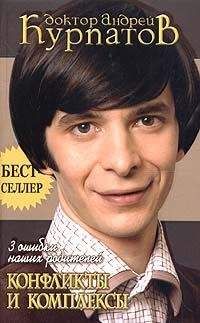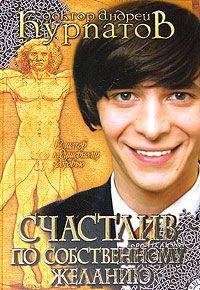Наконец, он — этот искомый — должен быть тем, в кого хочется верить, чью безраздельную щедрость и непогрешимость хочется ощущать. Причем даже слово «вера» не кажется здесь вполне подходящим, оно недостаточно весомо. Ведь нам хочется даже не верить, а знать, то есть испытывать ничем не омраченную, непререкаемую уверенность, «сознание факта». Мы хотим не только того, чтобы это наше знание было лишено сомнения, нам хочется, чтобы у нас не было бы даже самой возможности усомниться — «абсолютное сознание». И так можно верить только в бога, которого ты ощущаешь всем своим существом.
Все это было в нашем младенчестве, а если и не в младенчестве, то хотя бы в утробе нашей матери, но было, и было обязательно. Потом это ушло безвозвратно, мы сначала усомнились, потом разуверились, наконец, поняли, что заблуждались. Все, на что мы надеялись, все, что казалось нам незыблемым и несомненным, пало и разрушилось. Из Рая мы попали в Ад, и миг этого падения стал нашим великим испугом, след от которого шлейфом тянется по всей нашей жизни.
Глубокая внутренняя беззащитность — вот то, что знакомо каждому рожденному человеческому существу. Сможем ли мы преодолеть это чувство? Хватит ли в нас силы отказаться от мечты, от поиска бога, которого нет, который лишь реминисценция нашего детского переживания счастья? Каждому из нас надлежит ответить на этот вопрос. И прежде чем мы сделаем это, несколько соображений, если позволите...
Во-первых, если мы не признаем собственное ощущение внутренней беззащитности, ставшее оплотом нашей постоянной скрытой тревоги, у нас ничего не получится. Возможно, мы будем успешными, возможно, мы многого добьемся, но мы будем продолжать испытывать тревогу и потому мучиться.
Во-вторых, с детских пор мы находимся в неустанном поиске своего счастья, пытаемся вернуться в тот Эдем, из которого нас исторгли. Но давайте задумаемся над этим — Эдема, о котором мы грезим, не было! Мы испытывали лишь ощущение Рая, так что это своего рода мираж, галлюцинация, сон. Мы можем создать свое счастье, сделать его собственными руками, но его не вернуть, потому что то счастье было тогда, когда нас самих еще не было, не было того «я», с которым мы себя отождествляем.
В-третьих, и это самое важное, — есть ли вообще в нас эта беззащитность? Кажется, что этот вопрос противоречит первому из утверждений, однако я задаю его совершенно серьезно. Да, мы испытываем беззащитность, но беззащитны ли мы? Не является ли это ощущение такой же иллюзией, как и покинутый нами Эдем?
Иными словами, если наш Рай был иллюзией, то не иллюзия ли то, что мы чувствуем себя беззащитными, потеряв эту иллюзию? И что тогда все эти наши бесконечные поиски некоего бога (у кого «настоящего», у кого подсознательного), некоей защищенности? В действительности нам не от чего защищаться, и наша несвобода, рожденная страхом перед будущим, — такая же иллюзия, как и иллюзия нашей беззащитности!
И вот именно это мы должны осознать: наша глубокая внутренняя тревога — фикция, привычка тревожиться, чувствовать себя слабыми, но вовсе не адекватная оценка реального положения дел. А потому если нам и следует что-либо искать, то прозрения, осознания того, что эта тревога — блеф, игра нашего собственного психического аппарата.
Как бы ни страшно, кощунственно, странно нам было признавать это, но в нашей жизни не было ни Эдема, ни Рая, ни богов. Было детство, которое уже миновало, но которое мы не сподобились отпустить вместе со всея своей тогдашней детской зависимостью, слабостью, неполнотой. Теперь мы взрослые, мы равные среди равных, и перед нами жизнь, которую мы строим собственными чаяниями и поступками. Какой она будет? Ровно такой, какой будут наши чаяния и поступки. И главное, что мы должны усвоить, что детство кончилось, и это очень хорошо.
Все, что мы желаем изменить в детях, следовало бы прежде всего внимательно проверить: не является ли это тем, что лучше было бы изменить в нас самих, как, например, наш педагогический энтузиазм. Вероятно, лучше направить его на себя. Пожалуй, мы не признаемся себе в том, что нуждаемся в воспитании, потому что это беззастенчивым образом напомнило бы нам о том, что мы сами все еще дети и в значительной мере нуждаемся в воспитании.
Карл Густав Юнг
Недоверие и неискренность
Сейчас мы обратимся к своей социальной беззащитности — к нашим отношениям с другими людьми. Проблеме не вполне осознаваемой нами конкуренции, соперничества, царящего в человеческом обществе, посвящена следующая глава; здесь же я пытался показать, почему мы испытываем подсознательное внутреннее недоверие к окружающим, почему мы не можем верить в их искренность и боимся им доверять.
Даже если у нас все в порядке с человеколюбием, где-то внутри себя мы подозреваем окружающих в возможном предательстве. Мы можем объяснять это ощущение какими-то логическими закономерностями: «в жизни всякое бывает», «все может перемениться», «у него (нее) есть и свои интересы», «мало ли что может произойти». Но это только объяснения, за которыми стоит наше подсознание, которое просто не доверяет окружающим.
Это недоверие начинается с первого предательства — нашими родителями. Конечно, было бы большой ошибкой думать, что они тогда, в тот день, намеренно нас предали. Более того, возможно, нам лишь показалось, что это произошло, но какое это имеет значение, если, как говорят, осадок остался. Они, скорее всего, просто занимались нашим воспитанием, а вот мы почувствовали, что они игнорируют нас и наши желания. Поскольку до этого мы, отождествляясь со своими родителями, никак не предполагали, что это возможно, то, разумеется, психологический эффект от этого их поступка был подобен взрыву атомной бомбы над мирной Хиросимой.
Мы испытали ужас, осознав, что самый близкий человек, которому мы бесконечно и неограниченно доверяем, может в любой момент сказать: «Твое мнение никого не интересует!» или «Есть куда более важные вещи, нежели ты!» Оскомина, реминисценция того, детского еще, ощущения предательства близким человеком будет преследовать нас всю последующую жизнь. Мы будем подозревать окружающих в наличии у них корыстных планов на наш счет, мы будем видеть подтексты их высказываний, тайные умыслы и, в конце концов, чувствовать недоверие к тому, что они говорят и делают «для нас».
Наши отношения с родителями — вот то, благодаря чему в нас сидит какое-то смутное, но при этом тотальное недоверие к другим людям, а как следствие — к самим себе. Да и как я могу себе доверять, если я способен так жестоко ошибаться, оценивания других людей и степень их расположения ко мне. С другой стороны, если они относятся ко мне так — то есть могут предать, проигнорировать, — то, видимо, я на самом деле ничего из себя не представляю. Ведь если бы я представлял собой действительную ценность, то ни подлости, ни предательства они в отношении меня себе не позволили бы.
Наконец, искренность. В такой ситуации она оказывается и вовсе невозможной! Если я не доверяю другим, не доверяю себе, то о какой искренности вообще может идти речь?! Разумеется, я подозреваю окружающих в неискренности и уже тем самым становлюсь неискренним в своем отношении к ним. Поскольку же они пережили ровно такое же детство, со всеми теми детскими откровениями, которые так хорошо известны мне, то и с их стороны все будет точно то же самое: они будут сомневаться в моей искренности, как я сомневаюсь в их чувствах и поступках.
Таков порочный круг. Поначалу — до двух-трех лет — я безгранично доверял своим родителям, но продолжалось это лишь до тех пор, пока я не понял, что они, оказывается, могут поступать, совершенно не согласуясь с моими чувствами и моим представлением о жизни (которое я раньше считал общим, единым, одинаковым). Пережив этот ужас, прочувствовав это разочарование, я начал испытывать недоверие к окружающим и к самому себе. Все это лишило мои отношения с другими людьми искренности, я стал играть, лукавить, врать и... запутался[13].
И вот мы снова стоим перед альтернативой — продолжать жить так, как мы жили прежде, или что-то переменить в себе и в своем отношении к окружающим. В любом случае, мы должны понять как минимум три вещи.
Во-первых, возникшее у нас однажды ощущение, что наши родители нас предали, — возможно, только ощущение. Мы же должны оценивать поступок другого человека не по тому, что мы в связи с этим поступком чувствуем, а исходя из того, какова была мотивация этого действия внутри головы того, кто его сделал (впрочем, подвергая анализу собственные действия и поступки, было бы правильным думать иначе — о том, какой эффект наш поступок будет иметь для другого человека). Как они могли знать, что лично для нас будет значить этот их конкретный поступок, слово или хотя бы взгляд?