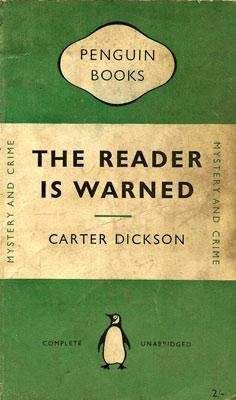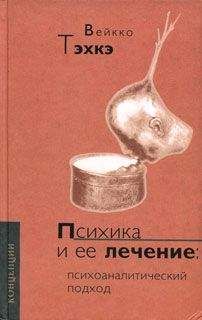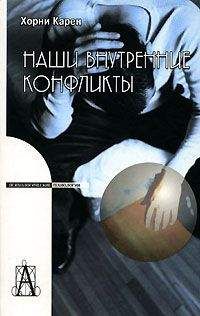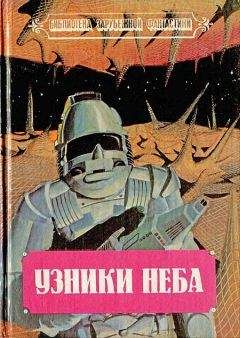она делила кровать с матерью до 8 лет, – только тогда у нее появилась своя комната. Большинство обид, похоже, восходило именно к этому времени, когда она стала осознавать свое соперничество с сестрой и отцом и, видимо, больше уже никогда не чувствовала себя любимой.
Ее отец был директором школы, а также главой маленькой, тайной, но очень мощной религиозной секты. Он создавал в семье атмосферу суровости и воздержанности, когда повсюду выискивался грех, которому сопротивлялись и который искореняли. Дома было невозможно бунтовать против этого климата, но пациентка хорошо успевала в школе и, в отличие от своей сестры, поступила в университет, где на первом году обучения удивила всех своими способностями к науке. Эта независимость отражала ее способность думать самостоятельно и, похоже, угрожала ее равновесию до такой степени, что в начале второго курса у нее произошел нервный срыв, и она была отправлена домой в состоянии острой тревоги с деперсонализацией и идеями преследования. Постепенно она поправилась, но не смогла вернуться в колледж и после двухлетнего перерыва пошла на курсы секретарей – вслед за сестрой.
Сложно было поверить, что скулящая, беспомощная, жалкая женщина, которую я выслушивал на аналитических сеансах, преуспевала в науках в университете, и только когда я улавливал проблески довольно высокого интеллекта – например, когда она решала сложные проблемы на работе или исправляла логические неувязки в моей интерпретации, – я понимал, что она что-то сделала со своей способностью мыслить. Отчасти, похоже, она отщепила эту способность и спроецировала ее в меня, так что стала зависеть от меня в самых элементарных суждениях; похоже, одним из факторов, вызвавших эту проекцию, была ее убежденность в том, что мышление опасно. Понятно, что она никоим образом не разрушила свой интеллект, поскольку, подлавливая меня на какой-то ошибке, наносила резкий и четкий удар, указывая на эту ошибку. Но в ежедневной деятельности, и особенно в аналитической работе, она не могла воспользоваться своей способностью думать. Мышление допускалось только, если оно не оспаривало существующий порядок, сохранявший ее статус-кво, но самостоятельно думать пациентка не могла и давала понять, что несправедливо ожидать от нее даже попыток в этом направлении.
Однажды она пришла с пятиминутным опозданием, объяснив, что вырывалась от жаждущей поговорить и задержавшей ее подруги.
Затем она описала сон, в котором спускалась в метро и внизу эскалатора обнаружила, что должна выбрать между дорогой налево, ведущей в город, и дорогой направо, ведущей домой. Во сне она застыла, не в состоянии сделать выбор, чувствуя себя ужасно тяжело, и обнаружила, что у нее в руке садовый серп. Из-за своей нерешительности она опоздала и ощутила облегчение, поскольку это значило, что у нее нет времени ехать в город и можно отправиться домой и заняться необходимой работой в саду, который ужасно разросся и стал неопрятным.
Этот серп ей одолжил сосед пару лет назад, и она наткнулась на него несколькими днями ранее, когда наводила порядок в садовом сарае. Она почувствовала вину не только за то, что не возвратила его, но и за то, что ни разу им не пользовалась. Она описала серп как ужасно острую вещь и удивлялась, почему сосед не просил вернуть его.
Я интерпретировал, что выбор, перед которым она оказалась в метро в ее сновидении, символизировал ее конфликт между выполнением болезненной аналитической работы и бегством от нее, и ее тяжелое чувство, похоже, было связано с напряженностью этого конфликта. Я соотнес ее опоздание из-за того, что трудно было оторваться от подруги, с ее нежеланием покинуть удобную ситуацию и воспользоваться интеллектом на сеансе, где, как дома в саду, ей предстояло проделать немало работы. Пациентка отреагировала очередной вспышкой нытья и жалоб. Она проигнорировала смысл сказанного и сосредоточилась на моей фразе о том, что в анализе еще предстоит много работы. Она сказала, что сейчас ей тяжело, и пожаловалась, что мои интерпретации непонятны и донимают ее, поскольку, раз осталось много невыполненной работы, значит, она все еще очень больна.
Я предположил, что отчасти ее отчаяние при мысли о работе связано с ее страхом использовать свой интеллект, который, она знала, может быть острым и разящим, как садовый серп, но в то же время необходим для полезной работы. Я подумал, что она боится использовать интеллект, поскольку боится, что он может быть применен для более открытого нападения на меня, а это представляет опасность. Она предпочитала оставить ответственность за мышление на мне и наблюдать, как я работаю, набрасываясь на меня, когда я ошибался. Она ответила с возмущением в том духе, что ужасно предполагать, будто пациент может нападать на своего аналитика, – но эта попытка заставить меня ощутить, что я сказал нечто неуместное, была неубедительной. Это напоминало ту романтическую атмосферу, что преобладала в первые годы ее лечения, когда наши взаимодействия сильно эротизировались, а затем трактовались как нечто неуместное.
Я подумал, что она также боится думать научно и делать выводы на основе фактов. Если бы дело обстояло иначе, то она была бы вынуждена оценить меня как аналитика, а она боялась, что в этом случае выводы ее огорчат. Ее неизбежно ждало бы разочарование при сравнении меня с созданным ею романтическим образом. Без сомнения, в конечном итоге она была бы вынуждена прийти к пониманию того, какова была она сама, что за человек был ее муж, каковы ее родители и семья. Чтобы распознать и позитивные, и негативные аспекты своих объектов, она должна была бы разобраться с той серьезной спутанностью, с которой обычно справлялась романтической идеализацией, спутанностью, которую, полагаю, символизировал разросшийся сад.
Значительная часть взаимодействия в переносе находилась под господством этого романтического, мечтательного состояния, в котором все эротизировалось специфическим образом – и детским, и садистическим одновременно. Когда она вела себя так невинно, по-детски, она втайне оставалась начеку и тщательно блюла свои интересы. Постоянные жалобы на одиночество и бедность, похоже, были связаны с представлением о мире комфорта и роскоши, который был ей обещан, а потом украден. Многое из этого относилось к тому времени, когда она делила с матерью постель и которое представлялось ей беззаботной жизнью без вмешательства сексуального отца.
Эти установки были отчетливо выражены в переносе, и пациентка намекала и подчас признавала, что я включен в ее романтические фантазии. Однако в основном она только жаловалась, что я не могу по-настоящему ею интересоваться, поскольку она слишком стара, или же что я предпочитаю профессионально успешных женщин. Обсуждать эти фантазии было невозможно, а если я пытался делать это, она возмущалась и обвиняла меня в неуместных мыслях и