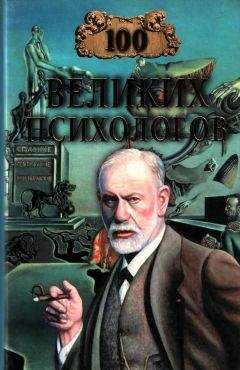Но более внимательный анализ показывает, что и эта точка зрения оказывается неприемлемой. Мы склонны думать, что наши действия свободны потому, что, как было показано Спинозой, мы осведомлены о наших желаниях, но ведь мы остаемся в неведении относительно их мотивов. Мотивы наших действий суть результаты конкретного сочетания определяющих наш характер сил. Каждый раз, когда нам приходится принимать то или иное решение, оно детерминируется силами зла или добра соответственно, в зависимости от преобладания тех или других. У некоторых людей бывает, что какая-нибудь одна сила преобладает столь явно, что тот, кто хорошо знает их характер и ценностные ориентации, может заранее предсказать результат их решения (хотя сами эти люди могут питать иллюзию, будто принимают решение «свободно»). У других деструктивные и конструктивные силы сбалансированы таким образом, что их решения практически непредсказуемы. Именно этот последний случай мы и имеем в виду, когда говорим, что от человека можно ожидать любого поступка. Но сказать так — значит признать, что мы не в состоянии предсказать его действия.
Однако принятое им решение свидетельствует о том, что какая-то сила оказалась преобладающей, так что и в этом случае его решение было обусловлено его характером. Следовательно, в любом случае поступок строго определяется характером человека. Так что воля — это не какая-то абстрактная сила, которой человек обладает независимо от характера, но, напротив, воля есть не что иное, как выражение, проявление характера. Личность с продуктивной ориентацией, поступающая согласно собственному разуму, способна любить других, равно как и себя, проявляет волю к добродетельным поступкам. Соответственно человек с противоположными качествами, раб своих иррациональных страстей, демонстрирует отсутствие воли.
Взгляд, согласно которому принимаемые нами решения определяются нашим характером, никоим образом не является фаталистическим. Хотя человек, подобно другим созданиям, и подчиняется воздействующим на него силам, все-таки он единственное существо, наделенное разумом, способное осознавать и понимать сами эти силы, который благодаря этому пониманию может играть активную роль в своей судьбе, сознательно культивируя в себе те качества, которые направлены на добро. Человек — единственное создание, наделенное совестью. Совесть — это голос, зовущий его к самому себе, говорящий, что он должен делать, чтобы стать самим собой, позволяющий осознать истинные цели его жизни и те нормы поведения, которые необходимы для достижения этих целей. Поэтому нельзя сказать, что мы являемся беспомощными жертвами обстоятельств; напротив, мы как раз в состоянии изменять те обстоятельства, влиять на них, контролировать, по крайней мере до определенной степени, условия, в которых мы оказываемся. Мы можем содействовать реализации тех условий, которые способствуют развитию наших стремлений к доброму. Но хотя мы и наделены разумом и совестью, благодаря чему становимся активными творцами собственной жизни, сами разум и совесть оказываются неразрывно связанными с характером. Если в характере преобладают деструктивные элементы и иррациональные страсти, разум и совесть умолкают, ибо их нормальное функционирование становится невозможным. Разумеется, развивать и использовать эти наши наиболее ценные способности — наша первейшая задача. Но они не свободны, не существуют независимо от нашего эмпирического «я». Они суть силы, существующие в структуре целостной личности, и, как и любой элемент структуры, детерминированы этой структурой как целыми сами, в свою очередь, детерминируют ее.
Если мы основываем наше моральное суждение о человеке на мнении, мог он или не мог в том или ином случае проявить силу воли, то никакое моральное суждение оказывается вообще невозможным. Ибо как мы можем узнать, например, насколько врожденные жизненные силы, жизнеспособность индивида позволяли ему и в детстве, и позже противостоять различным внешним влияниям или же недостаток их заставил его подчиниться этим влияниям. Можем ли мы знать наверняка, повлияло или нет случайное событие в жизни человека, например общение с добрым и любящим человеком, на формирование его характера или, наоборот, утверждать, что отсутствие такого общения повлияло на становление его характера в дурную сторону? Нет, не можем мы этого знать. Даже если бы мы основывали наше моральное суждение на той посылке, что человек мог бы поступить так-то или так-то, все-таки и конституциональные факторы, и факторы внешней среды, участвующие в формировании характера, столь многочисленны и сложны, что практически невозможно прийти к убедительному заключению, мог он или нет развиваться так, а не иначе. Все, что мы можем допустить, — это то, что имевшиеся обстоятельства привели именно к данному развитию. Отсюда следует, что если наша способность судить о человеке зависела бы от нашего мнения о том, что он мог бы повести себя как-то иначе, то, коль скоро дело идет об этических суждениях и оценках, мы должны были бы признать здесь полное свое поражение.
Однако этот вывод несостоятелен, потому что основан на ложной посылке и на заблуждении относительно смысла морального суждения. Это понятие может означать две совершенно разные вещи: судить означает реализовывать умственную способность логического суждения или предикации. Но «судить» означает также реализовывать функцию «судейской» деятельности, решая — осудить или помиловать.
Последний тип морального суждения основан на идее авторитета, трансцендентного человеку и судящего его. Этот авторитет обладает правом осуждать и наказывать либо миловать. Его диктат абсолютен, ибо он над человеком и наделен недосягаемой мудростью и силой. Даже образ судьи — лица, выборного в демократическом обществе и теоретически не стоящего над согражданами, — все-таки не свободен от налета древнего понятия карающего божества. Хотя как личность он и не обладает какой-то сверхчеловеческой властью, его должность и функция именно таковы. (Сами формы уважения, оказываемого судье, нечто вроде пережитка уважения, оказывавшегося верховному владыке, властелину). Однако многие, не имеющие отношения к судейским функциям, в своих моральных суждениях пытаются принять на себя именно роль судьи, решающего — казнить или помиловать. И им часто бывает свойственна изрядная доля садизма и деструктивная интенция. По-видимому, в мире нет ничего более омерзительного, вызывающего чувство «нравственного негодования», чем ненависть или зависть, действующие под маской добродетели. Сей «негодующий» субъект получает в подобном случае удовлетворение от презрения и обращения с другим, как с «подчиненным», испытывая при этом чувство собственного превосходства и добродетельности.
Ценностное суждение в гуманистической этике имеет тот же логический характер, что и любое рациональное суждение. Ценностные суждения выносятся на основ фактов, а не чьих-то субъективных ощущений богоподобия, превосходства, обладания правом карать или миловать. Суждение о человеке, как о деструктивном, жадном, ревнивом, завистливом, ничем не отличается от суждений врача о заболевании сердца или легких. Допустим, нам надо высказать суждение об убийце и мы знаем, что перед нами патологический случай. Если бы нам удалось узнать все о его наследственности, условиях его жизни и в детстве, и в более поздние годы, то не исключено, что мы пришли бы к выводу, что он действовал под влиянием условий, над которыми он не властен; в сущности, даже гораздо менее властен, чем какой-нибудь мелкий воришка, так что его можно скорее «понять», чем последнего. Но это вовсе не означает, что совершенное им преступление не подлежит осуждению. Мы можем понять, как и почему он стал таким, но это не значит, что мы не можем судить его за то, что он в данный момент собой представляет. Более того, мы даже можем допустить, что, живи мы в тех же условиях, мы тоже могли бы стать такими, как он; однако в то время как подобные мысли как раз и не позволяют нам брать на себя роль высшего судии, они совсем не мешают нам выносить моральные оценки. Понимание характера человека не снимает необходимости вынесения моральной его оценки. Она в данном случае столь же правомерна, как и оценка любой человеческой деятельности. Если, например, мне надлежит оценить пару туфель или картину, я в своей оценке буду опираться на какие-то объективные нормы или критерии, приложимые к данным предметам. Положим, обувь или картина окажутся некачественными, и положим, что мне скажут, что обувщик или художник и старались, как могли, сделать лучше, да обстоятельства и условия не позволили им этого, я ведь не изменю своего мнения о качестве произведенного продукта. Я могу питать к ним симпатию или жалость, могу поддаться соблазну оказать им помощь, но не могу сказать, что при этом не буду оценивать их работу, потому что понимаю причины, почему она плоха.