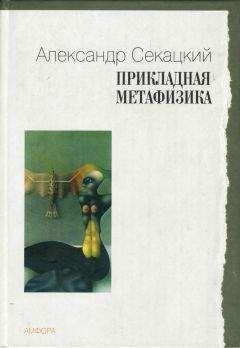Решающая роль поправки на кровь известна, можно сказать, капралам всего мира. Она лежит в основе воинской инициации и не слишком зависит от имеющихся арсеналов оружия или концепций строительства вооруженных сил. Некоторая обыденность и в то же время недоговоренность относительно важнейшей инициации препятствует широким сущностным сопоставлениям; в фильмах трансляция вампиризма обычно опосредуется укусом — выбран и освоен лишь один из многих фольклорных вариантов. Тем самым кино, будучи едва ли не единственным видеорядом вампирического в современной культуре, утвердило особую компактную атрибутику, включая неизменные в основных чертах правила игры. Роль Голливуда в интересующем нас вопросе оказывается двойственной: с одной стороны, его кинопродукция не дает изгладиться из памяти важному, если не сказать важнейшему, напоминанию. С другой — визуализация вампира прочно увязывается с посторонними, иногда абсолютно случайными атрибутами.
Таким образом, мы имеем перед собой двоящийся объект исследования: яркий кинообраз перекрывает свой экзистенциальный и антропологический прообраз, возможно, в замаскированном виде благополучно существующий среди нас, смертных. Эту двойственность, иногда помогающую исследованию, а иногда сбивающую с толку, придется постоянно иметь в виду.
Зов бытия и голос крови
«Зов бытия зовет нас таким образом, что совершенно не слышать его означает попросту не быть»[3]. Так говорит Хайдеггер, и описываемая им неодолимость зова пробуждает смутные воспоминания. Собственно зов бытия транслируется на всех частотах, но далеко не везде возникают зоны чистого приема. Сам Хайдеггер описывает преимущественно зов совести, обрекающий нас на сущностное одиночество; Лакан и его последователи обращают внимание на мама-язык, управляющий флуктуациями воображаемого. Но есть и другие волны, транслируемые через всю среду органического и заглушаемые разметкой экземплярности (делением на отдельные организмы). Таков голос крови — но не в смысле доведенного до уровня инстинкта родственного чувства и не в смысле генетически наследуемой предрасположенности (хотя это уже ближе). Голос крови дает себя знать как шум в ушах, как нарастающая музыка прилива, несущая опережающие позывные грозной стихии. Для иллюстрации можно обратиться к фильму Копполы — впрочем, и другие фильмы о вампирах так или иначе передают соответствующий эффект.
Вот граф Дракула смотрит на каплю крови, стекающую с лезвия опасной бритвы, — его гость, посетитель замка, порезался при бритье. Кровь, окрашивающая чистую сталь, полностью приковывает к себе внимание: резко сужается горизонт видимого, и влекущий зов становится явственно слышим. Куда, к чему он зовет? Нарастающий звук напоминает шум океана, который можно услышать, приложив к уху морскую раковину: каждому с детства знаком этот удивительный незабываемый звук.
Стало быть, голос крови, по крайней мере в первых тактах его слышимости, есть не что иное, как шум моря-океана. Тут нет ничего странного, ведь состав океанской воды химически очень близок к составу крови. Кровь теплокровных животных отличается лишь наличием гемоглобина, придающего этой древнейшей живой субстанции красный цвет, и более высокой средней температурой.
Вольфганг Гигерих предлагает рассматривать Океанос как единую стихию, включающую в себя внешний всеобъемлющий круг метаболизма — или собственно мировой океан, первичную среду жизни — и внутренние круги кровообращения, автономизированные, изъятые из единого потока отдельной телесностью[4]. Разобщенность двух кругов циркуляции, насчитывающая уже миллионы лет, не отменяет тем не менее их первоначального родства. В голосе крови распознаваем глубинный шум Океаноса, один из первичных позывов, анализу которых Фрейд посвятил работу «По ту сторону принципа наслаждения». Влечение к утраченному единству живого, к пресловутому телу-без-органов, точнее говоря, к зародышевому, общеродовому телу-без-организмов — таков конечный адресат первичного позыва, перехваченного и явственно услышанного вампиром. Более того, этот зов как раз и вызывает вампира к существованию, очерчивая присутствие особой сущности, подобно тому как застигнутые и окликнутые зовом Бытия обретают достоинство Dasein. Уместно спросить, что именно вызвано в нас так услышанным голосом крови? Глубокое наблюдение Фрейда, вполне подходящее в данном случае, свидетельствует о пробуждении спящих начал — «того, чему лучше было бы никогда не просыпаться»[5].
Вся хищная природа живого воплощается в призыве, пробуждающем вампира; эту сублимированную песнь можно расслышать в стихотворении Мандельштама «Лестница Ламарка». Пульсирующая жизнь здесь еще не распределена по отдельным телам, экспансия бесформенной субстанции еще не векторизована восходящим или нисходящим направлением. Сработавший на прием этих позывных резонатор, возможно, и конституирует вампира. Существенно, однако, подчеркнуть, что чистота приема достигается нерасслышанностью другого зова, полной блокировкой позывных Танатоса, настигающих, согласно Фрейду, каждого смертного и определяющих самое могучее влечение организма (психосоматического единства) — «стремление умереть на свой лад»[6]. Именно эксклюзивность настроя на зов Первичного Океаноса в диапазоне голоса крови, невосприимчивость к требованию завершения бытия в собственном времени и не дает вампиру умереть «естественной смертью». Требуется некое дополнительное усилие оповещения, зафиксированное фольклором и отраженное киноэстетикой.
Авитал Ронелл в «Телефонной книге», наиболее известном своем произведении, обыгрывает некоторую двусмысленность хайдеггеровского зова, имеющую тем не менее прямое отношение к сути дела. Английское слово «call», равно как и немецкое «Ruf», означает одновременно и «зов» и «телефонный звонок» (вызов). Совпадение не случайно: наша спонтанная готовность снять трубку и откликнуться на телефонный звонок (call), прерывая при этом любой очный разговор, возможно куда более важный, является эмпирическим свидетельством настоятельности зова — и можно представить себе, насколько зов свыше требовательнее звонка случайного абонента[7]. Находка Авитал Ронелл может быть интерпретирована и для интересующего нас случая. Поскольку вампир не слышит зов бытия как бытия-к-смерти (а значит, и не подчиняется ему), приходится использовать резервную линию связи — осиновый call. Только такая принудительная форма подключения к позывным Танатоса, как осиновый call, и позволяет наконец призвать к прекращению завораживающей пульсации трансперсональной стихии, к успокоению мерцания в монотонном режиме смерти.
Неуемность, неудержимость существа, именуемого вампиром, чаще фиксируется интуицией писателя, чем исследованиями культуролога и предположениями психолога. В качестве примера глубокого проникновения можно сослаться на роман Наля Подольского «Книга Легиона». Один из главных героев, Легион, с детства отличается необычной способностью: льющаяся кровь вызывает в нем глубочайшие преобразования — сначала уже знакомый шум в ушах, заглушающий все посторонние мотивации, а затем и полное переключение регистра восприятия. К жизни пробуждается другое существо и даже другое сущее, не имеющее прямого отношения к этому телу[8]. Видеоряд кино для изображения глубины трансформации использует устоявшиеся средства: выдвигаются клыки, на смену «слишком человеческой» приходит характерная экспрессия Чужого — но в принципе можно обойтись и без карикатурного внешнего антуража. Ведь сохранение прежней телесности не гарантирует сохранности прежнего существа — как и наоборот, при метаморфозах живой природы (типа бабочка — личинка — куколка) смена телесности не означает прекращения самотождественности представителя вида.
Просто пробудившийся Чужой ощущает тело, в котором он себя обрел (пробудился), как случайное и неокончательное: прежде всего как передатчик для трансляции позывов-команд, взывающих к новому синтезу, взламывающему разобщенность индивидуальных тел. Соответствующий поведенческий модус с интуитивной точностью выражен в лучших литературных и экранных образцах жанра (в том же «Носферату» Мурнау): осуществляется трансперсональный синтез некоего единства, основанного на кровных узах, причем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Регулярное, возобновляемое в соответствии с пульсирующим зовом кровавое жертвоприношение поддерживает существование вампириона — так в дальнейшем мы будем называть непосредственную кровную близость в отличие от опосредованного кровного родства. Понятие зова представляется здесь решающим — если рассматривать зов как инструкцию, альтернативную, но равномощную генетической инструкции (например, команде «построить тело!»). Тогда получает объяснение феноменальная, нечеловеческая сила вампира — она обусловлена как раз однородностью зова (голоса крови), отключающего все посторонние мотивы, и, прежде всего, мотив привязки к данному телу (инстинкт самосохранения). В целом же общая вампирология как метафизическая дисциплина требует создания собственного категориального строя с решающими включениями из сферы антропологии. Хотя историко-генетический аспект синтеза вампириона опирается на ряд случайных ароморфозов, без него разработка метафизического инструментария невозможна. Поэтому обратимся к антропогенезу.