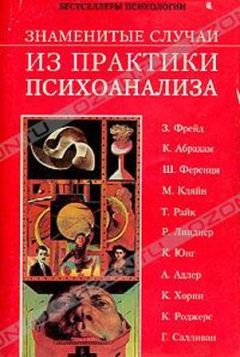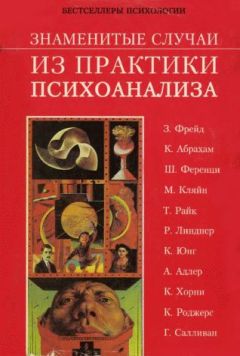- Дети, - взвизгнула она. - Ты думаешь, они не знают, куда ты идешь, когда ты не приходишь домой?
Он хлопнул ладонью по столу и встал.
- Хватит! - закричал он. - Я не обязан все это слушать. Замолчи! - И он направился в кухню. Предупреждая его действия, она начала вращать кресло у входа.
- Если ты не дашь мне поесть, то я возьму сам.
- Нет, этого не будет, - сказала она. - Здесь нет ничего для тебя.
- Прочь с дороги, Анна, - сказал он с угрозой в голосе. - Я хочу войти в кухню.
- Войдешь тогда, когда принесешь деньги на еду.
Его лицо потемнело, а руки сжались в кулаки.
- Калека! - сплюнул он. - Уйди или я...
В ответ она рассмеялась, коротко и горько.
- Что ты? Ударишь меня? Давай - ударь калеку! Чего ж ты ждешь?
Остановившись в дверном проеме, они глядели друг на друга, являя собой картину взаимной ненависти. За спиной отца, не двигаясь, сидели Лора и Малыш Майк с широко открытыми глазами и напрягшись всем телом. В тишине, наступившей вслед за криком Анны, было слышно, как по окнам шлепает дождь.
Отец медленно разжал кулаки.
- Если ты не уйдешь с дороги, - сказал он ровно, - я уйду из этого дома и никогда не вернусь.
- Ну и уходи, - сказала Анна, глядя на него со злостью. — Кому ты здесь нужен?
Долгую минуту он стоял, не двигаясь, как статуя, затем повернулся и быстро пошел в спальню, провожаемый их глазами. Теперь напряженная тишина прерывалась лишь шумом его шагов по комнате. Тень от его высокой фигуры то падала за порог, то исчезала.
На лице Анны, когда до нее дошло, что он делает, выражение триумфа сменилось тревогой. Своими костистыми пальцами она схватилась за колеса кресла. Торопливо объехав стол, она остановилась в дверях.
- Майк, - сказала она,- что ты делаешь?
Ответа не было - лишь проскрипели дважды кроватные пружины, да его башмаки продолжали стучать по доскам пола.
- Майк, — на этот раз ее голос стал громче и дрожал от страха, - куда ты идешь? Подожди!
Кресло вкатилось в спальню, так что дети не могли его видеть. Они сидели и слушали, чувствуя, как ужас сдавливает им грудь.
Она схватила его за пальто.
- Майк. Подожди, Майк, - кричала она. - Пожалуйста, не уходи. Я вовсе не хотела этого. Пожалуйста... Не уходи. Идем в кухню. Я просто глупо себя вела. Майк. Не уходи.
Когда он пытался оторвать себя от нее, ее тело приподнялось над креслом. Ее беспомощные ноги отказались ей служить, и она рухнула. Дверь наружу хлопнула. Теперь было слышно только, как дождь шлепает по окнам, поминутно заглушаемый рыданиями Анны...
- Он сделал, как сказал, - продолжила Лора свой рассказ. - Наверное, она зашла слишком далеко в этот раз. Он никогда не вернулся. Время от времени он посылал несколько долларов в простом конверте. В мой следующий день рождения я получила коробку конфет из Атлантик Сити... Но больше мы никогда его не видели.
Не глядя, она открыла застежку на своей сумочке и нащупала в ней носовой платок. Из уголков ее глаз потекли слезы. Несколько слезинок скатились на мочки ее ушей и висели там, как драгоценные подвески. Мне почему-то стало любопытно, не щекотно ли ей.
Она приложила платок к глазам и затем громко высморкалась. Ее грудь подымалась и опускалась в неровном ритме. В комнате было тихо. Я взглянул на часы.
- Ну? - спросила она.
- Что ну? - ответил я.
- Что же вы ничего не говорите?
- А что я должен сказать?
- Вы могли бы по крайней мере посочувствовать.
- Кому?
- Мне, конечно же!
- Почему только вам? - спросил я. - А Фреда, а Малыш Майк, а ваша мать? Или даже ваш отец?
- Но ведь меня это задело больнее всех, - сказала она раздражаясь. - Вы знаете это. Неужели вам меня не жалко?
- Вы мне для этого рассказывали ... для того, чтобы я вас пожалел?
Она повернулась на кушетке и посмотрела на меня. Ее лицо было искажено гримасой злобы.
- Вы мне даже чуть-чуть не сочувствуете? - сказала она.
-А вам не нужно чуть-чуть, Лора, - ответил я спокойно. - Вам нужно все... От меня, от кого бы то ни было.
- Что вы хотите этим сказать?
- Ну, например, та история, которую вы мне рассказали только что. Конечно, это ужасно, и она тронула бы любого, но...
- ...Но только не вас, - почти прошипела она. - Не вас. Потому что вы не человек. Вы - камень, холодный камень. Вам все равно. Вы сидите здесь, как чертов кусок дерева, когда я плачу кровавыми слезами! - Ее голос, в котором звучала ненависть, превратился в дребезжащий визг. - Да вы посмотрите на себя! - кричала она. - Я бы хотела, чтобы вы могли увидеть себя так, как я вижу вас. Вас и вашу дурацкую объективность! Объективность, вы только посмотрите! Да вы человек или машина? Вы вообще когда- нибудь что-нибудь чувствуете? У вас в жилах течет кровь или ледяная вода? Ответьте мне! Черт вас возьми, ответьте мне!
Я продолжал молчать.
- Вот видите! - снова закричала она. - Вы ничего не говорите? Мне — что? — умереть, чтобы вытянуть из вас хоть слово? Что вы от меня хотите?
Она поднялась.
-Хорошо, - сказала она. - Раз вы ничего не говорите... и раз вам все равно, я ухожу. Мне теперь ясно, что вы просто не хотите меня больше видеть. Я ухожу - и не вернусь. - И, шурша юбкой, она двинулась из комнаты.
Любопытно, размышлял я, как ей удалось разыграть историю, которую она только что рассказала. Интересно, заметила ли она это сама?
Разумеется, Лора вернулась. Она приходила четыре раза в неделю на протяжении последующих двух лет. В течение первого года нам удалось лишь незначительно продвинуться в том, что касается ее симптомов, в особенности депрессии и спорадического переедания. Симптомы не прекращались: более того, через несколько месяцев, последовавших за «медовым месяцем» психоанализа — когда, как это обычно случается, наступило полное освобождение от всех симптомов и Лора, подобно множеству пациентов, в это приятное время полагала себя «излечившейся» - ее бедственное состояние усугубилось. Приступы ненормального аппетита стали более частыми, а острые депрессии стали происходить не только с меньшими перерывами, но и каждый раз приобретали большую интенсивность. Таким образом, внешне казалось, что мое лечение не слишком помогает пациентке и даже приносит ей вред. Но я сказал - и это знала также Лора - что терапия разбудила скрытые процессы, которые, пусть медленно и незаметно, действуют против невроза.
Это вполне обычный процесс лечения, известный тем, кто сам прошел через психоанализ и кто занимается, искусством. Внешне все выглядит так же, как и до терапии, а часто даже хуже, но в глубине психики незаметно для наблюдателя и для большинства типов исследования происходит процесс изменения структуры личности. Почти неощутимо, но целенаправленно основа невроза ослабляется, и в то же самое время создаются новые и более прочные опоры, которые, в конце концов, служат изменившейся личности. Если бы это понимали критики психоанализа (или - что еще важнее - друзья и родственники подвергаемых анализу; ведь именно они жалуются, что, впрочем, понятно, на отсутствие видимого прогресса), это предупредило бы множество недоразумений по поводу процесса лечения и сделало бы возможным более рациональное обсуждение его достоинств как формы терапии.
Где-то около года как будто не наблюдалось никаких успехов. Иногда даже казалось, что Лора теряет под собой почву. В основном все происходило так, как я писал: она вспоминала о своем прошлом, а затем сразу или некоторое время спустя мой консультативный кабинет превращался в подмостки, на которых она драматически разыгрывала свою жизнь, причем мишенью, принявшей на себя трагические последствия ее жизненного опыта, был я. Таким способом она, используя климат вседозволенности, сложившийся во время терапии, пыталась найти компенсацию за пережитые в прошлом фрустрации, получить удовлетворение и утешение, которого она была лишена. Поскольку такое эмоциональное поведение должно было отнять у нее множество способов реального удовлетворения, предлагаемых жизнью, и направить ее энергию и дарования по непродуктивным и даже самодеструктивным каналам, я позволил ей на протяжении первого года почти беспрестанно осуществлять, так сказать, необходимый ей «дренаж». Идея этой полной вседозволенности, которую я допустил во время терапии, заключалась в том, чтобы держать перед ее глазами зеркало ее собственного поведения и дать ей возможность увидеть не только экстравагантность методов, используемых ею для достижения невротического удовлетворения, но и бессмысленность, тщетность и инфантилизм желаний, руководивших всей ее жизнью. В конечном итоге эта процедура должна была показать невозможность надежного, долговременного и прочного удовлетворения с помощью приобретенных ею методов поведения. Эта цель, разумеется, налагала определенные ограничения на мою ответственность в отношении ее поведения: я вынужден был осторожно отмеривать (в нужное время и в нужном количестве) заслуженные ею поощрения, когда она обнаруживала зрелое поведение, направленное к зрелой цели.