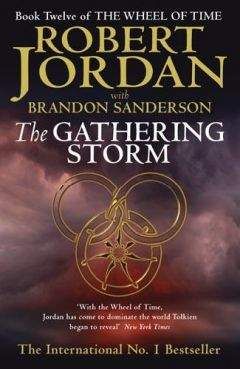"Номер 2" моей матери полностью разделял мой энтузиазм, но все остальные явно меня не одобряли. До сих пор я натыкался на каменную стену общепринятых традиций, но только теперь в полной мере ощутил всю твердость человеческих предрассудков и очевидную неспособность людей признать существование сверхъестественных явлений; причем я столкнулся с такого рода неприятием даже среди близких друзей. Для них это все выглядело куда хуже, чем мое увлечение теологией. Мне показалось, будто весь мир выступил против меня: все, что вызывало у меня жгучий интерес, другим казалось туманным, несущественным и, как правило, настораживало.
Но чего же они боялись? Этому я не находил объяснения. В конце концов, в том, что существуют вещи, которые не укладываются в ограниченные категории пространства, времени и причинности, не было ничего невозможного и предосудительного. Известно ведь, что животные заранее чувствуют приближение шторма или землетрясения, что бывают сновидения, предвещающие смерть других людей, что часы иногда останавливаются в момент смерти, а стаканы разбиваются на мелкие кусочки. В мире моего детства подобные явления воспринимались как совершенно естественные. А сейчас я, похоже, оказывался единственным человеком, который когда-либо о них слышал. Совершенно серьезно я спрашивал себя: что же это за мир, куда я попал? Городской мир явно ничего не знал о деревенском мире, о мире гор, лесов и рек, животных и "не отделившихся от Бога" (читай: растений и кристаллов). С таким объяснением я был полностью согласен. Оно прибавляло мне самоуважения, я понял, что, позволяя осознавать, несмотря на всю свою ученость, городской мир довольно ограничен. Эта моя убежденность была отнюдь не безопасной: я стал важничать, стал скептичным и агрессивным, что меня безусловно не украшало. Наконец, ко мне снова вернулись старые сомнения и депрессии, чувство собственной неполноценности — тот порочный круг, из которого я решил вырваться любой ценой. Мне больше не хотелось быть изгоем и пользоваться сомнительной репутацией чудака.
После первого вводного курса я стал младшим ассистентом на кафедре анатомии, и в следующем семестре профессор назначил меня ответственным по курсу гистологии, что меня вполне устраивало. Более всего меня интересовали, причем с чисто морфологической точки зрения, эволюционная теория и сравнительная анатомия, я также был знаком и с неовитализмом. Иначе обстояло дело с физиологией: мне были глубоко неприятны все эти вивисекции, которые производились, по-моему, исключительно в целях наглядной демонстрации. Меня не покидала мысль, что животные сродни нам, что они не просто автоматы, используемые для демонстрации экспериментов. Поэтому я пропускал лабораторные занятия, так часто, как только мог. Я понимал, что опыты на животных небесполезны, но их демонстрация казалась мне жуткой и варварской, а главное, я не видел в ней необходимости. Мое чересчур развитое воображение вполне позволяло представить всю процедуру по одному лишь скупому описанию. Мое сочувствие к животным было основано вовсе не на аллюзиях шопенгауэровой философии, а имело более глубокие истоки — на восходящее к давним временам бессознательное отождествление себя с животными. В то время, конечно, я ничего не знал об этом психологическом факторе. Мое отвращение к физиологии было настолько велико, что экзамен я сдал с большим трудом. Но все-таки сдал.
В последующие клинические семестры я был так загружен, что у меня совершенно не оставалось времени ни на что другое. Я мог читать Канта лишь по воскресеньям, тогда же моим увлечением стал и Гартман. Включив в свою программу также и Ницше, я так и не решился приступить к нему, чувствуя себя недостаточно подготовленным. О Ницше тогда говорили всюду, причем большинство воспринимало его враждебно, особенно "компетентные" студенты-философы. Из этого я заключил, что он вызывает неприязнь в академических философских кругах. Высшим авторитетом там считался, разумеется, Якоб Буркхардт, чьи критические замечания о Ницше передавались из уст в уста. Более того, в университете были люди, лично знававшие Ницше, которые могли порассказать о нем много нелестного. В большинстве своем они Ницше не читали, а говорили в основном о его слабостях и чудачествах: о его желании изображать "денди", о его манере играть на фортепиано, о его стилистических несуразностях — о всех тех странностях, которые вызывали такое раздражение у добропорядочных жителей Базеля. Это, конечно, не могло заставить меня отказаться от чтения Ницше, скорее наоборот, было лишь толчком, подогревая интерес к нему и, порождая тайный страх, что я, быть может, похож на него, хотя бы в том, что касалось моей "тайны" и отверженности. Может быть, — кто знает? — у него были тайные мысли, чувства и прозрения, которые он так неосторожно открыл людям. А те не поняли его. Очевидно, он был исключением из правил или по крайней мере считался таковым, являясь своего рода lusus naturae (игра природы. — лат.), чем я не желал быть ни при каких обстоятельствах. Я боялся, что и обо мне скажут, как о Ницше, "это тот самый…". Конечно, si parva componere magnis licet (если позволено сравнить великое с малым. — лат.), — он уже профессор, написал массу книг и достиг недосягаемых высот. Он родился в великой стране Германии, в то время как я был только швейцарцем и сыном деревенского священника. Он изъяснялся на изысканном Hochdeutsch, знал латынь и греческий, а может быть, и французский, итальянский и испанский, тогда как единственный язык, на котором с уверенностью говорил я, был Waggis-Baseldeutsch. Он, обладая всем этим великолепием, мог себе позволить быть эксцентричным. Но я не мог себе позволить узнать в его странностях себя.
Опасения подобного рода не остановили меня. Мучимый непреодолимым любопытством, и я наконец решился. "Несвоевременные мысли" были первой книгой, попавшей мне в руки. Увлекшись, я вскоре прочел "Так говорил Заратустра". Как и гетевский "Фауст", эта книга стала настоящим событием в моей жизни, Заратустра был Фаустом Ницше, и мой "номер 2" стал теперь очень походить на Заратустру, хотя разница между ними была как между кротовой норой и Монбланом. В Заратустре, несомненно, было что-то болезненное. А был ли болезненным мой "номер 2"? Мысль об этом переполняла меня ужасом, и я долгое время отказывался признать это; но она появлялась снова и снова в самые неожиданные моменты, и каждый раз я ощущал физический страх. Это заставило меня задуматься всерьез. Ницше обнаружил свой "номер 2" достаточно поздно, когда ему было за тридцать, тогда как мне он был знаком с детства. Ницше говорил наивно и неосторожно о том, о чем говорить не должно, говорил так, будто это было вполне обычной вещью. Я же очень скоро заметил, что такие разговоры ни к чему хорошему не приводят. Как он мог, при всей своей гениальности, будучи еще молодым человеком, но уже профессором, — как он мог приехать в Базель, не предполагая, что его здесь ждет? Как человек гениальный, он должен был сразу почувствовать, насколько чужд ему этот город. Я видел какое-то болезненное недопонимание в том, что Ницше, беспечно и ни о чем не подозревая, позволил "номеру 2" заговорить с миром, который о таких вещах не знал и не хотел знать. Ницше, как мне казалось, двигала детская надежда найти людей, способных разделить его экстазы и принять его "переоценку ценностей". Но он нашел только образованных филистеров и оказался в трагикомическом одиночестве, как всякий, кто сам себя не понимает и кто свое сокровенное обнаруживает перед темной, убогой толпой. Отсюда его напыщенный, восторженный язык, нагромождение метафор и сравнений — словом, все, чем он тщетно стремился привлечь внимание мира, сделаться внятным для него. И он упал — сорвался как тот акробат, который пытался выпрыгнуть из себя. Он не ориентировался в этом мире — "dans ce meilleur des mondes possibles" (лучшем из возможных миров. — фр.) — и был похож на одержимого, к которому окружающие относятся предупредительно, но с опаской. Среди моих друзей и знакомых нашлись двое, кто открыто объявил себя последователями Ницше, — оба были гомосексуалистами. Один из них позже покончил с собой, второй постепенно опустился, считая себя непризнанным гением. Все остальные попросту не заметили "Заратустры", будучи в принципе далекими от подобных вещей.
Как "Фауст" в свое время приоткрыл для меня некую дверь, так "Заратустра" ее захлопнул, причем основательно и на долгое время. Я очутился в шкуре старого крестьянина, который, обнаружив, что две его коровы удавились в одном хомуте, на вопрос маленького сына, как это случилось, ответил: "Да что уж об этом говорить".
Я понимал, что, рассуждая о никому неизвестных вещах, ничего не добьешься. Простодушный человек не замечает, какое оскорбление он наносит людям, говоря с ними о том, чего они не знают. Подобное пренебрежение прощают лишь писателям, поэтам или журналистам. Новые идеи, или даже старые, но в каком-то необычном ракурсе, по моему мнению можно было излагать только на основе фактов: факты долговечны, от них не уйдешь, рано или поздно кто-нибудь обратит на них внимание и вынужден будет их признать. Я же за неимением лучшего лишь рассуждал вместо того, чтобы приводить факты. Теперь я понял, что именно этого мне и недостает. Ничего, что можно было бы "взять в руки", я не имел более, чем когда-либо нуждаясь в чистой эмпирии. Я отнес это к недостаткам философов — их многословие, превышающее опыт, их умолчание там, где опыт необходим. Я представлялся себе человеком, который, оказавшись неведомо как в алмазной долине, не может убедить в этом никого, даже самого себя, поскольку камни, что он захватил с собой, при ближайшем рассмотрении оказались горстью песка.