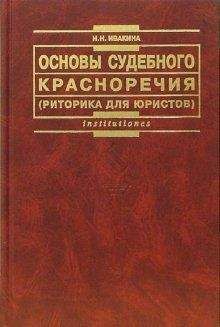Изучая участников события для их характеристики, оратор должен отрешиться от всяких предвзятых взглядов. До поры до времени его единственная задача – понять человека. Пусть не думает он о возможных выводах из того, что поймет подсудимого так, а не иначе. Конечно, один и тот же человек, преступник или жертва, укрыватель или зачинщик, в большинстве случаев будет представляться неодинаковым, смотря по тому, вглядывается ли в него обвинитель или защитник. Это естественно и неизбежно, но это не должно быть намеренным. Не следует подгонять характеристику к обвинению или к защите; она должна сама родиться из данных дела. Когда характеристика готова и у оратора составилось прочное представление об изучаемых им людях, тогда следует искать дальше: что может произойти при столкновении их между собой в данных условиях.
Скажут, можно ошибиться в понимании этих людей. Да, это не возбраняется; но при искренности, внимании и осторожности можно не ошибаться. От нас не требуется химической точности; нам нет нужды вычислять, сколько десятых честности, сколько сотых злобы, сколько тысячных бескорыстия подарила природа тому или другому человеку; достаточно сказать: уступчивый, мстительный, щедрый, алчный, добродушный, жестокий. В характеристике, составленной без предвзятой мысли из таких признаков, ошибки не будет, и оратор может положиться на нее. Искусственная характеристика выдаст его. Спасович – даже Спасович! – говорит про Егора Емельянова: "Аккуратный, спокойный, медлительный, лимфатический; в нем ни пылинки страсти…" Но это на самом деле не так, и чувствуется, что оратору недостает убежденности, что правда на стороне его противника.
Но, может быть, искусная характеристика – это очень трудная вещь? Нет. В ежедневных разговорах, в дружеской переписке мы свободно выражаем свои суждения об окружающих нас людях и верно определяем их характер в немногих чертах; наши судебные сборники изобилуют мастерскими характеристиками; люди действительно оживают в них. Но в этом нет ни колдовства, ни недосягаемого искусства. Правда, есть у нас немало ораторов, способных обесцветить, обезличить самые своеобразные фигуры; по какому-то злому року от них ускользает всегда все значительное, интересное в человеке. Это те самые, которые всегда говорят: вместо добряк – очень добрый человек, вместо тунеядец – человек, упорно не желающий трудиться, вместо рыцарь – человек высоко благородных побуждений и т. д. То же делают они и в подробных характеристиках, как бы намеренно сметая краски, сглаживая каждую необычную черту. Таких злополучных людей ничему научить нельзя. Впрочем, они бывают и мало склонны учиться.
Обстоятельства дела сами собой рисуют каждого из участников судебной драмы. Этот образ слагается из его поступков, речей, писаний и отзывов о нем других людей. Надо только помнить, что мелочи часто бывают характернее, чем крупные черты.
Argumenta morum ex minimis quoque licet capere *(80) , говорит Сенека. Буало повторяет за ним:
La nature, feconde en bizarres portraits,
Dans chaque ame est marquee a de differents traits;
Un rien la decouvre, un geste la fait paraitre,
Mais tout esprit n'a pas des yeux pour la connajtre *(81) .
Душевные свойства человека отражаются в его незначительных поступках. Поищем примеров.
Муж, бедный учитель пения, убеждает больную жену работать по ночам, чтобы накопить денег ей на платье для концерта, в котором она будет петь; когда ценою долгих часов, проведенных за иглой, она набрала двадцать или тридцать рублей, он требует их себе на новое пальто.
Гамлет, только что узнавший об убийстве его отца, прерывает свои проклятия, чтобы занести в записную книжку:
That one may smile, and smile, and be a villain – "что можно улыбаться, и улыбаться, и быть негодяем".
Уличный мальчишка украл яблоко с лотка старой торговки; она остановила его, сказала, что красть нехорошо, и дала еще яблоко.
Врач обвинялся по 1462 и 1463 ст. Уложения о наказаниях, от его противозаконной операции умерла молодая девушка. У постели над ее телом он обнимает и целует ее жениха, а отцу предлагает открытый бумажник; когда было возбуждено следствие, он подговаривал нескольких женщин удостоверить, что операция была произведена не им, а другим врачом.
В каждом из приведенных выше примеров, взятых, за исключением стихов Шекспира, из действительности, незначительный факт дает безошибочное указание на определенную черту характера в человеке.
Заметим по поводу приведенного выше возгласа Гамлета преимущество оратора перед писателем. Только гений мог осмелиться сочинить, выдумать такие слова. Простому смертному не поверят, если он расскажет нечто подобное. Обвинитель и защитник не страшатся этого недоверия: не они сочиняют, а жизнь дает им характеристику людей.
Не менее выразительны бывают и разговоры, общие суждения, иногда простые восклицания человека.
Муж, знающий об изменах жены, возвращается домой с работы и спрашивает своего жильца: "Что, моей дуры нет?" Немного погодя, он повторяет вопрос: "Что, Маша не приходила?" Егор Емельянов стучит в окно и кричит покорной и верной Лукерье: "Идешь, что ли? гей, выходи!" Тот и другой убили жену; но по простым этим словам можно сказать, что это разные люди.
Молодой человек пришел к своему соучастнику по сбыту поддельных акций и высказал предположение убить другого сообщника, чтобы предупредить его донос. "Ничего не ответил Никитин,– говорит обвинитель,– а зашагал по комнате, ходил долго взад и вперед, молча и задумчиво, и наконец,.. сказал: да, когда змея заползет в нашу среду, то ее нужно задушить, и чем скорее, тем лучше". Эти слова, по замечанию А. Ф. Кони, как живого, рисуют Никитина. "Он все оценивает умом; сердце и совесть стоят у него назади, в большом отдалении. Поэтому, когда Олесь сказал об отравлении, он не возмутился, не заспорил, а замолчал…" Вот пример, словно намеренно придуманный для того, чтобы подтвердить указание Буало. Именно молчание – un rien – является самым характерным выражением личности Никитина. Но всякий согласится, что и словам, последовавшим за молчанием, в выразительности отказать нельзя.
По замечанию Фенелона, живая характеристика дается не эпитетами, а фактами. Когда у нас восхваляют какого-нибудь святого, говорит он, наши ораторы ищут только громких слов; говорят, что он был бесподобен, обладал небесными добродетелями, был ангел, а не человек; и все старание уходит на одни восклицания, без доказательств и без красок; греки избегают этих бессодержательных общих мест; они приводили факты; во всей "Киропедии" Ксенофонт ни разу не говорит, что Кир заслуживал удивления, а читатель все время удивляется ему. Это справедливое замечание не совсем верно на суде. Эпитет, данный подсудимому или потерпевшему свидетелем, удостоверяет, что свидетель знает или, по крайней мере, считает их такими или иными людьми. Это больше, чем слово; это факт. Вот почему решительный отзыв знакомого, соседа, односельчанина подсудимого или потерпевшего бывает убедительнее для присяжных, чем самые остроумные догадки оратора о личных свойствах людей, ему неизвестных.
Подсудимый предан суду по 1489 и 2 ч. 1490 ст. Уложения о наказаниях. Защитник спрашивает:
– Что, Сауман был злобный человек, драчун?
Свидетель отвечает:
– Нет, смирный; лошади не тронет.
Другое дело.
– Какого поведения была покойная?
– Труженица, святая женщина.
Одно такое слово сразу устанавливает отношение присяжных к мертвой, и попытка рассеять это впечатление только укрепляет его.
Конечно, такие отзывы могут быть небеспристрастны. Поэтому, делая характеристику подсудимого или иного лица чужими словами, надо пользоваться ими с разумением. Если суждение свидетеля высказано спокойно, если он кажется достойным доверия и, особенно, если это суждение совпадает с представлением самого оратора о том же лице,– на отзыв этот можно положиться; при иных условиях нужна осмотрительность.
В этих отзывах, как и вообще в свидетельских показаниях, гораздо более ценно то, что высказалось без намерения, чем то, что свидетель хотел сказать. Когда сыщик или дворник говорит про подсудимого хулиган – это вполне определенная характеристика, но достоверность ее зависит от степени доверия, внушаемого свидетелем. Но когда свидетель – босяк, осужденный за грабеж и приведенный под конвоем, заявляет, что подсудимый накануне убийства пришел к нему и сказал: "Дай мне фину (финский нож)",то прокурору нет нужды доказывать, что убийство готовилось "на дне", среди бывших людей; этим самым уже сделана и характеристика обоих собеседников.
Перед судом старик ксендз, прелат с мальтийским крестом *(82) на сутане. Защитник спрашивает его мнение о подсудимом; свидетель объясняет: "Этот человек очень порядочный, преданный семейной жизни, очень заботливый о своих детях; в разговорах о нравственных предметах он высказывал очень возвышенные мысли; он заведовал безвозмездно врачебной частью в одном училище и очень добросовестно исполнял эту обязанность". Никто не усомнится в правдивости этого показания, но всякий поймет, что врач, живущий противозаконным производством выкидышей, не станет рассказывать об этом хотя бы духовному лицу. Высоконравственный в глазах свидетеля подсудимый перед судом оказывается не только преступником, но и лицемером.