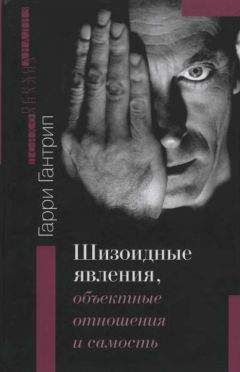Так, сорокалетняя женщина с больным мужем и двумя детьми, ощущая длительное истощающее силы напряжение вследствие тяжести своей ответственности, обнаружила, что ее шизоидная реакция на эту ситуацию так же пугает, как и сама ситуация, хотя в то же время приносит облегчение от тех трудностей, справиться с которыми она не чувствует себя достаточно сильной. Однажды она сказала: «Я чувствую себя столь истощенной, что просто хочу лечь и не двигаться, забыться глубоким сном и никогда не просыпаться». Она в действительности переходила от периодов истощенной апатии к периодам лихорадочной деятельности (см. пятую главу). Ей приснилось, что один ее ребенок, определенно представляющий ее саму, «не любит людей и удалился от них в собственное затворничество», и она прокомментировала: «Меня не интересует ни пища, ни люди, я не хочу, чтобы около меня кто-то находился, даже вы. У меня такое чувство, будто я нахожусь в пластиковой коробке». Она вздрогнула, когда я сказал, что ее любящая самость заперта на замок, зарыдала и сказала: «Жизнь пуста, у меня нет никакой жизненной цели». Затем она принесла следующее сновидение:
«Меня развернули внутрь. Я не знаю, каким образом, но дело обстояло именно так. Я могла слышать, что происходило внутри, но я не могла услышать ничего, что происходило снаружи. Я могла смутно видеть своего мужа и некоторых других людей, но они ничего для меня не значили, они даже не казались реальными. Однако я чувствовала себя в безопасности».
Здесь мы находим выражение мотивированного ухода внутрь себя, разрыва отношений с реальными людьми во внешнем мире ради безопасности в «уединенном убежище», замкнутом интровертированном состоянии. Никто не реагирует настолько радикально, когда ситуация возникает впервые во взрослой жизни. Нормальная реакция даже на серьезное затруднение — это совершение дополнительного усилия. Пациентка ушла в нереальность во взрослой жизни, потому что ее уже влекло в шизоидное состояние в детском возрасте. Результатом была дереализация ее внешнего мира и деперсонализация себя. Она обнаружила, что вечером, когда дети уже в постели, если ее муж выходил из комнаты, она внезапно ощущала утрату реальности. Она нуждалась в присутствии семьи, настоятельно побуждающей ее «находиться в контакте», в противном случае она утрачивала свое собственное эго. И, однако, все время она питала могущественное скрытое желание такого полного ухода, ибо оно помогало ей чувствовать себя в безопасности. Она не хотела умереть, а просто хотела уйти в абсолютную пассивность и забвение глубокого сна и никогда не просыпаться. Другие люди не должны отдаляться от нее, но она хотела чувствовать свободу отдаляться от них. Это показывает крайне разрушенное и деморализованное эго. Она высказывала сложное разнообразие мотивов для этого почти непреодолимого регрессивного стремления: «Я не хочу, чтобы кто-либо знал, что я испытываю чувства, потому что тогда они смогли бы причинить мне боль», «Я боюсь любить, потому что чувствую себя очень слабой; любовь истощила бы меня, и я утратила бы себя», «Я боюсь, что если я полюблю, то не вызову ответного чувства. Люди не считают меня красивой. В семье меня считали уродиной. Я боюсь рискнуть показать, что я хочу быть желанной». Все эти важные мотивы для шизоидного ухода являются аспектами глубинного сложного внутреннего запрета на способность любить и быть любимой во внешнем мире, который делает человека еще более беспомощной жертвой сильного регрессивного стремления отхода от жизни.
До тех пор пока не раскрыто это твердое желание полного освобождения от контактов с людьми в реальной жизни, пока оно не становится ясно осознанным, понятым в его истинной сущности и пока оно не получит сочувственного признания, от него нельзя избавиться. Оно является патологическим эквивалентом нашего ночного ухода от нормального дневного напряжения к нормальной регрессии в нормальном сне. Патологическая регрессия нередко принимает форму компульсивного и продолжительного сна глубокого «наркотического» типа, в котором диссоциирована даже фантазия и сновидческая жизнь пациента, а также отрезан внешний мир. Представляется вероятным, что продолжительное глубокое успокоение пациента в госпитале стало бы еще более эффективным, если бы ему объяснили значимость для него подобного успокоения. Целью регрессии любого вида является крайне желанный уход от жизни «здесь и сейчас», с которой, по мнению индивида, он не может справиться. Он вновь возвращается к существованию на более простом и более раннем уровне, не требующем столь огромного напряжения. (Следуя этому принципу, мы все в нашей деловой жизни время от времени берем отпуск.) При патологической регрессии серьезное напряжение возникло слишком рано, серьезно нарушило нормальное развитие силы эго и оставило несчастного индивида внутренне подорванным и неадекватным для встречи с взрослыми обязанностями. В таком случае регрессия, поддерживаемая и контролируемая ситуацией лечения, — крайне необходимый терапевтический процесс. Опасно просто интерпретировать ее как истерическую симуляцию и манипуляцию окружением. Те интенсивные требования, которые «истерик» предъявляет к окружающим его людям, обусловлены сочетанием трех сил: подлинной инфантильной потребности в зависимости, влечения ментально удалиться от мира, который он не может выносить и который, по его мнению, лишен любви, и страха, что это приведет к полной утрате контакта с внешним миром и поэтому к утрате его собственного эго.
Чем более интенсивна потребность пациента в терапевтической регрессии, тем больше он ее опасается и тем сильнее он ей сопротивляется во внутренней борьбе, которая наполняет его крайне болезненным телесным и ментальным напряжением. Мы должны теперь более подробно исследовать это жесткое антилибидинальное противостояние какой-либо допустимой терапевтической регрессии, противостояние, которое так часто анализировалось, что кажется, что эта битва никогда не будет полностью выиграна. Пациенты обычно говорят: «Я уже ранее со всем этим покончил. Почему же меня все еще тянет к этому?» Проблема одновременно потребности связей и страха разрыва связей с пугающим внешним миром четко иллюстрируется в случае молодой девятнадцатилетней женщины, страдающей от тяжелой агорафобии. Школьная фобия начала развиваться после того, как она похвально прошла экзамен в одиннадцатилетнем возрасте. Этому предшествовала бессонница в период тяжелой нагрузки перед экзаменом. Причины небезопасности могут быть прослежены при обращении к событиям раннего детства. В подростковом возрасте она стала все более и более неспособна противостоять жизни без явной защиты (хоть и была на надомном обучении), и у нее возникли достаточно серьезные приступы депрессии, чтобы она начала принимать антидепрессанты, которые на некоторое время приносили облегчение. Ее базисное состояние было неизменно. Примерно с пятнадцати лет она стала подвержена внезапным приступам деперсонализации, если оставалась дома одна или когда шла в магазин за покупками, даже с родителями. Однажды в магазине мать на короткое время оставила ее одну, чтобы подойти к прилавку, и вот что она рассказывает о происшедшем: «Внезапно я утратила восприятие того, что происходило вокруг меня, все очертания расплылись, и я крепко уцепилась за руку матери, а затем все вернулось назад, и я почувствовала, что падаю. Я говорила себе: “Не глупи”, — и произносила про себя свое имя. Мне стало немного легче, и я не потеряла сознания, хотя и не могла видеть. Я чувствовала себя крайне напуганной, затем на короткое время в полной безопасности а затем вновь крайне напуганной. В магазине у меня возрастало состояние напряженности, и я хотела как можно быстрее вновь очутиться внутри машины (т.е. бегство в маленькое безопасное пространство). Когда у меня в глазах померк свет, в течение нескольких секунд я ощущала себя в безопасности. Затем я подумала, что отрежу себя от мира так сильно, что никогда не смогу вернуться обратно, и это снова напугало меня. Теперь я не люблю подниматься дома вверх по ступеням, потому что ощущаю себя отрезанной и чувствую, что никогда не смогу спуститься вниз».
Диагностировать это переживание только как агрессивную истерическую попытку контролировать всех вокруг себя ради собственного успокоения значило бы упустить из виду значимость данной проблемы. Конечно, такая пациентка делает все возможное для того, чтобы ее никогда не оставляли в одиночестве, потому что она напугана переживанием этих «приступов». Страх этого психического состояния влечет его повторение, и, несомненно, это усиливает симптомы, что ведет к получению требуемой защиты. Однако если мы сделаем акцент на симптомах вторичной выгоды, как это делается на основании диагноза истерии, то мы не сможем объяснить их первоначальную причину и не прольем ни капли света на интенсивную борьбу, идущую между потребностью убежать от пугающего мира и столь же непреодолимым страхом перед этой потребностью. Быстрое чередование чувства испуга, чувства безопасности, чувства отрезанности и затем вновь чувства испуга освещает эндопсихический конфликт, в который попала пациентка, и вновь указывает нам на некую базисную слабость эго.